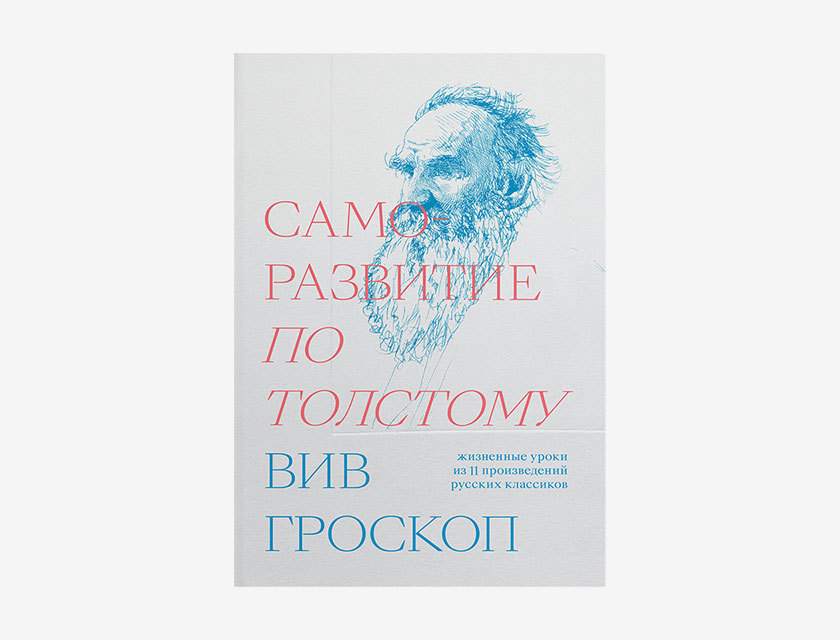«История одного назначения» глазами редакторов «Полки»
Редакция «Полки» посмотрела новый фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения» (как известно, один из героев фильма — Лев Толстой периода работы над «Войной и миром»). Мнения разошлись, и не приходя к консенсусу, каждый из редакторов «Полки» решил написать о фильме от себя. (Внимание! В первом тексте подробно пересказывается сюжет фильма, если вы ещё собираетесь посмотреть «Историю» — будьте внимательны и осторожны).
Варвара Бабицкая
«История одного назначения», фильм, основанный на реальном эпизоде биографии Льва Толстого, неизбежно воспринимается как иносказательный разговор о сегодняшнем дне. В принципе, любой небессмысленный фильм даёт зрителю право смотреть его именно так, но в случае истории о столкновении прекраснодушного либерализма и государственной репрессивной машины, которая неумолимыми шестеренками судопроизводства перемалывает русский народ, это неизбежно. Юный хипстер поручик Колокольцев прожигает жизнь в столице, поит шампанским слона (ему шутки, а слон издох — задним числом этот анекдот бросает моралистическую тень на все последующие трагические события). Отец — генерал старой закалки, «слуга царю, отец солдатам» — называет сына никчёмным, и чтобы доказать его неправоту, Колокольцев на кураже переводится в настоящую армию: дождь, скука, зуботычины, воровство, бесконечная муштра, бездушный капитан, не считающий солдат за людей (конечно же, поляк). С этого момента хипстер, по дороге подружившийся с графом Толстым, внезапно преображается в либерального деятеля, мечтающего реформировать армию, завести школу для солдат и защитить безответного солдата — жертву дедовщины. Тем самым Колокольцев почти пародирует деятельность Льва Толстого в «Ясной Поляне» с его школой для крестьянских детей и прогрессивными чёрными свиньями. Сюжетные линии смыкаются, когда Колокольцев и его духовный наставник пытаются спасти от расстрела солдатика, доведенного до безумия избиениями и назначенного козлом отпущения в деле о полковой растрате. Толстой не смог, Колокольцев не захотел — народ безропотно гибнет.
Это можно прочитать как горькое высказывание о безнадежности сопротивления, неизбежности разочарования, беспомощности интеллигенции перед лицом власти и необходимости делать нравственный выбор вопреки всему. Но если посмотреть на сюжет фильма внимательно, его главный посыл покажется не столько безнадежным, сколько циничным. Почему, для начала, попадает под суд безответный писарь? Потому что хипстер-идеалист Колокольцев сдуру нарушает сложное равновесие между репрессивной властью и народом (живущим скверно, но все-таки живым), дав солдату денег на побег и тем подведя его под обвинение в воровстве. Почему проваливается попытка защитить писаря перед судом трибунала? Потому что интеллектуал-либерал Толстой из пустого тщеславия вызывается защищать его сам, отказавшись от мер, предложенных практичной Софьей Андреевной: пригласить профессионального адвоката, а лучше, не дожидаясь суда, задействовать коррупционные механизмы, попросив тётушку-фрейлину о заступничестве перед царем. Дальше — больше. Поначалу Толстой избирает единственную линию защиты, которая могла бы сработать: подсудимый невменяем. Но затем на графа находит стих и он превращает адвокатскую речь в проповедь гуманизма: нельзя же человека убивать, смотрите, вот он чихнул, он живой и светится! Тут уж, конечно, поручику Колокольцеву ничего не остается, как под суровым, но справедливым взглядом своего отца-суперэго приговорить писаря к расстрелу: ни по какому закону нельзя оправдать преступника на том основании, что он чихнул, это и дураку понятно. Толстой, увидев, что натворил, пишет наконец письмо царю — но в таком оскорбительном тоне, что царь, разумеется, не внемлет (а ведь предупреждали мудрые сановники, что стоит умерить гонор и соблюсти элементарные приличия!)
Этой второй — нелепой — речи Толстого, проповедующего военному трибуналу «не убий», не было в реальности. Благодаря этой маленькой выдуманной детали сверхактуальная для нас проблема неправого суда, убивающего невинных детей, незаметно подменяется тезисом о неотвратимости закона, которую, однако, может смягчить монаршая милость, если уповать и не лезть на рожон.
Хипстер Колокольцев и либеральный мыслитель Толстой последовательно сами подвели народ под монастырь, сами устроили издевательский факт с защитой — и, наконец, «вы и убили-с!». А так бы жил себе народ в сложной гармонии с репрессивной властью — плоховато, но спасибо, что живой. Да и только ли народ. Прогрессивные чёрные свиньи дохнут от голода, потому что Толстой за абстрактным человеколюбием не учел профессиональной гордости конкретного конюха, назначив его свинарем. Солдаты, которых распустил прекраснодушный либерал Колокольцев, употребляют излишек свободы не на то, чтоб грамоте учиться, а на поджог бани с голыми бабами. Скверно не то, что идеалист оказывается слаб перед нравственным выбором: скверно, что, по морали фильма, поручик Колокольцев, превратившийся в бездушного служаку, сделал единственно правильный выбор.
Юрий Сапрыкин
«История одного назначения» разыгрывается в декорациях Тульской губернии 1866 года, но как бы держит в голове Россию-2018: намёки и аллюзии не вынесены в подстрочные примечания, как в книге Михаила Зыгаря, но легко прочитываются. Пылкий юный либерал-реформатор, уставший от жизни формалист-бюрократ, обаятельный в своем цинизме чиновник, опирающийся на традиционные ценности — тень на плетень, рука руку, не подмажешь не поедешь; служивый люд, который пьёт и подворовывает и, конечно, публичный интеллектуал, готовый встать на защиту жертв репрессивного механизма (частью которого он в итоге и оказывается). Их манеры и интонации как будто перенесены на экран из сегодняшних кабинетов и гостиных, их мотивы, их методы, предметы их споров за последние 150 лет не изменились вовсе.
Эта история основана на реальных событиях, хотя и невеликого масштаба: вряд ли они остались бы в источниках и чьей-либо памяти, если бы одним из участников не был Лев Толстой. И всё же — на широком экране, с протянутыми в сегодня нитями, она прочитывается уже как высказывание о России вообще.
У этого высказывания много слоёв, и сводить его к однозначной школьно-басенной морали — себя не уважать. Но есть несколько способов — констатирующий, упреждающий и, если хотите, императивный — которыми можно его прочитать. Да, это кино о том, как обстоят дела в России, это положение дел описывается несколько износившейся максимой «хотели как лучше, получилось как всегда», и пожалуй, в фильме дана самая жестокая её расшифровка. Все действующие лица ведут себя, в общем, как подобает — как велит им долг, закон, авторитет, знание жизни или, в случае Толстого, обострённое чувство справедливости и художественное чутьё — и всё эти вполне оправданные и объяснимые деяния неумолимо ведут к чудовищному финалу, в котором гибнет самый слабый и беззащитный. Можно увидеть в этой истории предупреждение: не влезай — убьёт, все попытки привнести в косную русскую реальность свободу и просвещение обернутся сломанными судьбами и загубленными жизнями, усилия тщетны, благие намерения обречены, мы утонем, утонем в болоте (и наверное, то, с какой легкостью приходит на ум эта трактовка, говорит не о «России вообще» — а о том, какой мы видим её сегодня).
Но есть и еще одна — может быть, самая достойная — возможность: приняв во внимание описание, истолкование и предупреждение, услышать здесь ещё и требование. Оно звучит приблизительно так: в конечном счёте, вся эта тяжелая скрежещущая махина, круговое движение русской истории, держится на том, что выберешь в эту секунду ты, именно ты. Страх или совесть, закон или милосердие, то, что говорит власть, или то, что говорит совесть. Мрачная предопределённость финала «Истории» (который ещё растягивается на несколько гнетущих эпизодов, как будто авторы всё сильнее закручивают штопор) создана минутным решением одного частного человека, оно могло бы быть другим. Ответ, который дан на вечные вопросы русской истории расстрельной командой, не окончательный: по крайней мере, у одного из героев фильма остаётся ещё 44 года жизни, чтобы найти — и навсегда впечатать в русскую литературу и историю — другие.
Лев Оборин
Если говорить только о «качестве продукта», то, к сожалению, на примере «Истории одного назначения» видна бедность, отработанность киноиндустрии. Множество усилий достойных людей приводят к появлению далеко не образцового фильма — в том, что касается кастинга, озвучивания, деталей. Очень чувствуется разница в актерской школе, просто в манере себя держать — у старшего и младшего поколений: к примеру, игра Андрея Смирнова, персонажа важного, но не центрального, скорее теневого, — выдающаяся; неуверенность его сына Алексея и неестественность интонации Евгения Харитонова, играющего Толстого, рядом с ней выглядят невыгодно (так же контрастно выглядели смирновские «Отцы и дети» десятилетней давности). Это, впрочем, можно сказать не обо всех молодых актерах: к примеру, Ирина Горбачева в роли Софьи Андреевны Толстой и Филипп Гуревич в роли писаря Шабунина (гибнущего, кажется, из-за того, что в единственный момент он разорвал собственную «святость», «блаженность») — вполне убедительны.
Теперь о фактической подоплёке фильма, малоизвестном эпизоде из жизни Толстого. То, что усилена его драматичность (Толстой на самом деле не поссорился с Колокольцевым навсегда, Стасюлевич на самом деле утопился не сразу после показанных событий, самое важное — Толстой на самом деле не произносил «остраняющей» речи в духе самых проникновенных внутренних монологов «Войны и мира», а ссылался на «глупые законы»), — момент спорный, но в интересах кино скорее оправданный. Другое дело, что таким образом создаются новые мифы и аберрации. Из драматизации следует и тенденциозность фильма. Рецензии на него полны обобщений: вот это у нас такая страна, в ней невозможно сделать людям лучше или спасти кого-то от неправедного суда — зато можно сесть и написать «Войну и мир». Если такое обобщение — и, следовательно, экстраполяция на современность — действительно предполагались, а не вчитываются коллективным полубессознательным, то перед нами опасно комфортная мысль: даже если тебе не удастся кого-то спасти, ты в конечном итоге всё равно окажешься правым. Окровавленный писарь у столба забывается, «Война и мир» остается. С другой стороны, интенция фильма может быть противоположной: показать, что вина за пролитую кровь ложится на всех и на все, в том числе на страницы гениального романа. Тело писаря падает на рукописи, бесконечно переписываемые Софьей Андреевной. «Мы оба его погубили», — говорит Толстой Колокольцеву, хотя Колокольцев-то вынес смертный приговор, а Толстой искренне пытался писаря спасти. Но капли шабунинской крови на страницах всё равно остаются примечанием, фактом биографического контекста. «Война и мир» непобедимы, жизнь коротка, искусство вечно.
Тяжёлый фильм, в самом деле тяжёлый.
Полина Рыжова
«История одного назначения» — вовсе не байопик Льва Толстого, а универсальная история о взрослении (не зря и название картины подчеркнуто неконкретное, расплывающееся). При этом взросление, крушение юношеского идеализма не увязано здесь с возрастом — 38-летний граф Толстой так же проходит через него, как и юный поручик Колокольцев. Объединяет двух героев несколько взбалмошная, но, в общем, довольно симпатичная уверенность в себе и разумности окружающего порядка, который нужно всего лишь немного встряхнуть и обновить. Но и Толстой, и Колокольцев, исходя вроде бы из самых лучших намерений, сначала наталкиваются на стену устоявшихся правил, затем несколько раз оступаются и постепенно сами увязают в тягучей хтонической бессмыслице. В сущности, именно этот зазор между действием и результатом и делает человека взрослым, и чем шире зазор, тем более травмирующим, ломающим этот опыт может стать. При этом чаще всего зазор создаётся не дурными делами и не тем, что человек не устоял перед искушением, «взрослыми» соблазнами, но именно поступком хорошим, приведшим чёрт знает к чему и самым обидным, несправедливым для человека образом.
В фильме эта история крушения идеалов доводится до отчаянного вскрика (будто в конце работы на ноутбуке сценариста залипла клавиша с восклицательным знаком), но на самом деле она оставляет пространство для жизнеутверждающего толкования. Если в поручике Колокольцеве столкновение с реальностью (в его случае принявшей вид вероятного отцовского осуждения) вызвало испуг и почти патологическое желание как можно незаметнее в эту реальность встроиться, то для Толстого оно стало началом и основанием многолетней борьбы. Толстой писал, что случай с писарем Шабуниным имел на его жизнь гораздо больше влияния, «чем все кажущиеся более важными события жизни: потери или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей». И дело даже не в том, что бескомпромиссная борьба представляется занятием более достойным, чем бесхребетное соглашательство, а в том, что у человека, по крайней мере, всегда есть варианты.