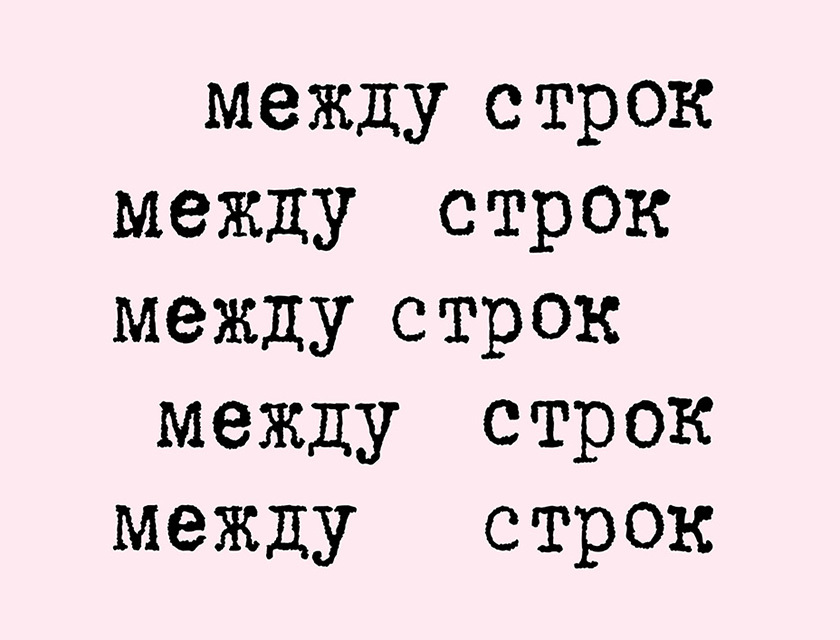Мастюков Валентин, Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС
«Между строк»: «Я Мойша з Бердычева…» Яна Сатуновского
В очередном выпуске подкаста «Между строк» поэтесса и писательница Линор Горалик разговаривает со Львом Обориным об одном из самых известных стихотворений Яна Сатуновского. Как в стихах Сатуновского — поэта Лианозовской школы и участника Великой Отечественной — показаны война, холокост и антисемитизм? Как ему удаётся на крохотном пространстве стихотворения развернуть эпос о геноциде? Что это за памятник в Роттердаме из последней строки и почему важно, что речь идёт именно о советских евреях?
Фотогалерея библиотеки imwerden.de
Ян Сатуновский
***
Я Мойша з Бердычева.
Я Мойзбер.
А, может быть, Райзман.
Гинцбург, быть может.
Я плюнул в лицо
оккупантским гадинам.
Меня закопали в глину заживо.
Я Вайнберг.
Я Вайнберг из Пятихатки.
Я Вайнберг.
За что меня расстреляли?
Я жид пархатый дерьмом напхатый.
Мне памятник стоит в Роттердаме.
Мы говорим сегодня о стихотворении, написанном в 1963 году, — это, наверное, самое известное стихотворение Яна Сатуновского, его ключевое стихотворение о катастрофе советских евреев и катастрофе еврейства в XX веке. Кажется, что это такие стихи — как все стихи Сатуновского и большинство стихотворений Лианозовской школы, к которой он принадлежал, — в которых как бы нечего комментировать. Это прямое высказывание, сделанное максимально экономными средствами. То, о чём сам Сатуновский писал:
Мне говорят:
какая бедность словаря!
Да, бедность, бедность;
низость, гнилость бараков;
серость,
сырость смертная;
и вечный страх: а ну, как...
да, бедность, так.
«Бедность словаря», которая отмечает эту школу ещё с «барачных» стихов Игоря Холина, здесь становится средством для описания истории оккупации советской Украины, для монолога человека, попавшего в эти чудовищные жернова. Но, может быть, стоит начать с того, что это стихотворение выделяет в дискурсе советской поэзии о холокосте. Ведь было заметное количество стихов на эту тему. Начиная с «Бабьего Яра» Евтушенко — самого известного текста, поднятого на официальные знамёна. Что делает Сатуновский, чего не делают другие?
Я не пытаюсь делать вид, что я знаток поэзии о холокосте. Я что-то читала, что-то понимаю, но не могу говорить за всех. Я очень боюсь всегда вопросов «Что это значит для евреев, что это значит для всех?». Но я могу сказать, почему это стихотворение так важно для меня. В нём сплелись несколько смыслов, которые для меня принципиальны. В первую очередь здесь — потрясающая история, про ту самую простоту, наивную с точки зрения читателя, притворяющуюся наивной. Очень часто, когда речь идёт о холокосте, и особенно когда речь идёт о холокосте на языке поэзии, нам представляют эпическое полотно. «Бабий Яр» — тому важнейший пример. Мы можем долго говорить о достоинствах и недостатках этой поэмы, но важность её трудно переоценить. Для огромного числа людей это было первое и, может быть, единственное свидетельство о холокосте, которое они получали. Это огромное достоинство этого произведения.
Что делает здесь — на мой личный взгляд — Сатуновский? Как и во всём, что он делает, он, безусловно, создаёт эпос, огромное эпическое полотно. Только он создаёт его за счёт крошечного человека с крошечными деталями крошечной жизни. И в конце он выводит эту крошечную жизнь в гигантский масштаб. И масштаб этот, вместо того чтобы приподнять этого человека над землёй, выглядит нелепым, бессмысленным, ничего не дающим, ничего не меняющим. Понятно, что по сравнению с пережитой этим человеком трагедией, по сравнению с мукой, пыткой и смертью, недоумением перед лицом смерти, героизмом какой-то «памятник в Роттердаме» — это насмешка, это бессмысленное и пустое действие. Оказывается, что эпос о холокосте может быть нелеп! По сравнению с холокостом эпос о холокосте может быть фальшивкой, как памятник в Роттердаме, при всей его мемориальной важности.
Другая история — то, что происходит в самом стихотворении. Я по-прежнему говорю только о своём переживании этого текста. Есть люди, страдающие фобией погребения заживо. Её никогда не было у меня как таковой, я не боялась, например, того, чего боялись многие люди, мы знаем об этом из примеров По и Гоголя. Но откуда-то из советского дискурса о войне у меня был смертельный страх этой пытки. И меня это стихотворение держит на крючке ровно этим методом среди прочего. Я живу в Израиле, и здесь, как нигде больше, существует тема большого героизма перед лицом холокоста. Большой героизм — это восстание гетто, восстание в концлагерях, подпольные «дороги жизни», сопротивление на большой шкале. Оформление документов евреям, спасение неевреями евреев, спасение евреями евреев и так далее. Сатуновский же говорит о маленьком бессмысленном героизме. Страшном, чудовищном, ничего не дающем, кроме чудовищной же, мучительной смерти. Причём в этом стихотворении множество героев и две смерти. Один — погребённый заживо, один — расстрелянный, как были расстреляны массы, как был расстрелян Бабий Яр, когда расстреливали тысячами на месте.
German Federal Archives
Хотя тут может идти речь о том, когда сначала застрелили, а потом закопали ещё живым.
Да. Из-за того что перечисляется много имён, у меня есть повод думать, что речь идёт о двух смертях. Тот, которого закопали в глину заживо, знает за что. В отличие от того, который задаётся вопросом: «За что меня расстреляли?» Ровно поэтому я думаю, что это противопоставление двух смертей.
То есть перед нами — хор. Не монолог одного человека.
Хор, да. И я думаю, что голос, который говорит: «Я жид пархатый дерьмом напхатый», — это метаголос, такой «начальник хора», общий завершающий аккорд. И вот человек перед нами совершает поступок, про который кто-нибудь может спросить: «Зачем?» Зачем было это делать? Понятно было, что это — обречь себя на муку. Невозможно это объяснить — если не читать бесконечные свидетельства жертв холокоста и не понимать, что там кроме ценностей, которые приходят в голову первыми, когда думаешь не только о невыносимых условиях существования в концлагерях евреев перед лицом смерти, но и вообще любого человека в мясорубке войны, о чём Сатуновский пишет очень много, — так вот кроме ценностей жизни, здоровья, еды, медицинской помощи есть такая ценность, как собственное достоинство. Этот человек выбирает ценность — сохранить на секунду собственное достоинство.
Мало того — мы же не знаем, на каком это фоне. Сатуновский крошечными выразительными средствами создаёт титанического масштаба спектакль. Мы не знаем, что предшествовало этому плевку. Почему было совершено это действие? Это была месть за какой-то поступок в адрес ближнего? У Сатуновского есть чуть ли не навязчивая тема — изнасилование женщин во время войны. «Изнасилованные фрёйлен Ильзе, / ауфвидерзэен в социализме». Итак: это было оскорбление в адрес женщины, которая стояла рядом с ним? Это был жест отчаявшегося человека, который не мог больше терпеть этот спектакль? Так или иначе, этому жесту предшествовало что-то, сиюминутное или накопившееся. Это был ответ на какие-то предыдущие обстоятельства. И последовавшее умерщвление тоже было ответом.
И дальше там есть одно слово, которое меня потрясло, когда я перечитывала это стихотворение. Я не помнила: там «нацистским гадинам» или «фашистским гадинам»? И оказалось, что там не то и другое — там «оккупантским гадинам»! И вдруг я поняла: в этом стихотворении есть ещё один подтекст, огромный! Он связан с идентичностью. Понятно, что этот человек — еврей. Он «жид пархатый, дерьмом напхатый». Он Мойзбер. Он — советский еврей. И это совершенно потрясло меня, потому что я этого не помнила. Ведь эти гадины — они для огромного числа людей в первую очередь фашисты, но он ненавидит их больше как оккупантов. Он, может быть, больше советский человек, чем еврей.
Я тут хотел процитировать Валерия Шубинского, который пишет об этом же моменте — о таком маркере идентификации не только для героя этого стихотворения, но и для самого Сатуновского: «Чтобы чтить память убитого еврея, надо, чтобы он погиб не просто как еврей, а как сопротивляющийся врагу советский человек. «Плюнул в лицо оккупантским гадинам» — не нацистам, а именно оккупантам. Сравни стихотворение Слуцкого «Как убивали мою бабку». Но этого мало. Трагедия и слава «жида пархатого» нуждается в подтверждении памятником в Роттердаме, признанием в цивилизованном мире». Это, может быть, кажется уже некоторым перебором.
Тут я не соглашусь.
Ну не о признании в цивилизованном мире думает в последние минуты угасающий человек. Более того, этот памятник переводит стихотворение в надмирную, надсиюминутную плоскость. Умерший не знает, что ему поставили памятник в Роттердаме.
Там есть ещё один важный момент в эту же тему. Он не просто так Вайнберг, он — Вайнберг из Пятихатки. Я из Днепропетровска, как и Сатуновский. Пятихатка — это оккупированная территория. Эта локализация даёт дикую земляческую конкретику. Он становится абсолютно конкретным человеком из конкретного оккупированного места. Совершенно понятно, какие судьбы постигли этих людей. Это перестаёт быть абстракцией. И противопоставление крошечной провинциальной Пятихатки и Роттердама становится важным, потому что в Роттердаме был свой холокост, свои погибшие, своя беда. Но и потому, что этого не чувствует человек, читающий текст. Создаётся впечатление, что вся трагедия происходит в оккупированной Пятихатке. А Роттердам — это какой-то большой мир. И только когда ты понимаешь, что в Роттердаме в то же время происходила та же трагедия, ты вдруг, рывком осознаёшь её масштаб.
Да, это не про цивилизованный мир, который признал трагедию несчастного еврея из Пятихатки. Совсем другое.
Нет, Роттердам признал трагедию несчастного еврея из Роттердама в том числе! Может быть, в первую очередь. И про памятник этот мы ещё поговорим.
У меня есть соображения, которые я почерпнул из комментариев к большому тому Сатуновского, вышедшему силами Ивана Ахметьева в издательстве «Виртуальная галерея» в 2012 году.
Хочу сказать спасибо Ивану и его соратникам, людям, открывающим для нас наследие Сатуновского, знакомящим с ним.
И не только за Сатуновского, а ещё за много прекрасных книг, которые он подготовил и издал. Ну так вот. Там написана вещь, которая сильно смещает представление об этом стихотворении: «Вероятно, имеется в виду «Разрушенный город» работы Осипа Цадкина. Упоминается также в статье Яна Сатуновского «Поэт Генрих Сапгир и его поэма «Старики». В 1961 году на французской выставке в Москве экспонировалась его бронзовая копия». Мы знаем, что выставки — это «окно в мир» для неподцензурных поэтов. Бродский тоже пишет о линогравюрах, увиденных на ленинградской выставке, и вплетает как бы походя в стихотворение имя автора, которое он на этой выставке и узнал. Но важно, что этот «памятник в Роттердаме» — это вовсе не памятник еврею. Это памятник, сделанный еврейским скульптором Осипом Цадкиным, и посвящён он бомбардировке Роттердама в 1940 году, когда нацистская авиация выжгла дотла центр города, там погибло около 1000 человек. Они не целились в евреев, они хотели, чтобы Нидерланды сдались. И Нидерланды сдались после этой бомбардировки. Получается, что этот памятник становится для Сатуновского символом памятника еврейству — на самом деле им не будучи.
Ron Kroon / Anefo
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
У меня есть ещё версия. Ведь под стихотворением стоит чёткая дата — 20 сентября 1963 года. Что могло в 1963 году произойти, что создало это впечатление — «Роттердам, памятник евреям», откуда могло это выстрелить? В 1963-м появился памятник евреям в Люблине на месте Майданека. И это могло схлопнуться всё вместе: памятник евреям на месте Майданека, выставка с памятником в Роттердаме. Это такая аберрация, контаминация.
Опять-таки человек, говорящий в этом стихотворении, тоже не обязан хорошо помнить, где ему стоит памятник.
Абсолютно! Это только подтверждает моё чувство, что там идёт речь не о противопоставлении одного мира другому, а о слепливании трагедии в огромный всемирный ком. И для меня это оказалось очень важным. И ещё ужасно интересно: в стихотворении есть некоторое противопоставление между «жид пархатый дерьмом напхатый» и «памятник стоит в Роттердаме». Я вижу это противопоставление, довольно горькое, вот каким образом: никто не ставил памятники евреям до холокоста. То есть отдельным евреям — ставили, но до холокоста не было образа евреев, память которых надо чтить, нации, с болью и горем которой надо считаться. Как с Христом, чья природа в момент распятия двойственна: в тот момент, когда этот человек погибает в холокосте, его природа уже двояка. Он всё ещё «жид пархатый дерьмом напхатый», но он уже человек, которому будет стоять памятник в Роттердаме. И это совершенно поразительный момент. И в некотором смысле это не противопоставление, это двуединство.
А ещё можно рассматривать это в рамках практики реклейминга, всегда существовавшей. Когда оскорбление в каком-то смысле носится с гордостью. «Да, я такой, как вы меня назвали, но мне памятник стоит в Роттердаме!»
И более того: у кого — у кого, но у Сатуновского мы можем не сомневаться, что этот механизм работает. Потому что Сатуновский работает с ним очень часто и очень упорно.
Ещё одна вещь из комментариев Ахметьева: «Мойша из Бердичева» — буквально так называлась книжка, изданная в 1914 году. С подзаголовком «Еврейский злободневный сборник новейших остроумных романсов, куплетов, смешных рассказов и сценок из жизни евреев». Российское издание. Здесь обличается, вводится в контекст ещё одна часть еврейской идентичности — как её понимают чужие. Что есть так называемый еврейский юмор, все эти анекдоты про «не жалейте заварки», все эти многочисленные, с картавым прононсом произносимые шутки — вот что в этот космос втекает. Получается, что когда он называет себя «Мойша с Бердичева», он не просто указывает на то, что был какой-то Мойша в Бердичевском гетто, допустим. Погибший. Но и на то, что была вот такая «икона», такой образ. Который как бы отменяется или переосмысляется фактом того, что с ним произошло.
Если это так, то мы лишний раз видим, насколько наивно говорить о стихах Сатуновского как о простых. И какая это виртуозная структура, которая начинается и заканчивается присвоением оскорблений.
Да, оскорблений или стереотипов. Помимо «Бабьего Яра» существовал и цикл стихов Бориса Слуцкого — «Евреи хлеба не сеют…», «Как убивали мою бабку». Надо сказать, что Слуцкий был одним из немногих поэтов, официально признанных в советском мире, которых Сатуновский по-настоящему ценил. На которых хотелось быть чем-то похожим. Он сам писал, что для него, заставшего последние годы литературного конструктивизма, понятно имя Маяковского. Оно было паролем. Владислав Кулаков, замечательный исследователь современной поэзии, пишет, что Сатуновский едва ли не единственный, «кто сумел действительно продолжить традиции Маяковского-великого, а не Маяковского-советского. Несмотря на отказ от «агитатора, горлана, главаря», отказ от «выкрика» и выбор подчёркнуто тихой фрагментарной поэтики». Я бы сказал, что, наверное, между Маяковским и Сатуновским здесь стоит Слуцкий. Поэт, который говорил, что на весь мир тех, кто кричит, нужен один, который говорит правду и который без прикрас просто рубленым словом что-то произносит. «И я занимаю это место», — говорит Слуцкий.
Но при этом Слуцкий существует в двойственном космосе. У него есть масса стихов печатаемых и непечатаемых. Сатуновский же про себя говорил: «я не поэт, я не печатаюсь с 1938 года». Все его книжки выходят посмертно. Но при этом такое впечатление, что постконструктивистским языком оказалось возможно говорить о больших трагедиях. Ведь у Холина — тоже большая трагедия, но это повседневная трагедия, это трагедия людей, проживающих свою жизнь в чудовищных бараках, «Сегодня суббота, / Сегодня зарплата, / Сегодня напьются / В бараках ребята». И всё.
У Сатуновского гораздо более историчные тексты. У него очень много текстов, которые показывают, как в советском космосе живут в том числе и евреи и ощущается антисемитизм. Например, есть американская поэтесса Клодия Рэнкин, которая выпустила книжку «Citizen». Эта книжка о том, как повседневные проявления расизма не отмечаются теми, кто их совершает, но болезненно отмечаются афроамериканцем. И по стихам Сатуновского видно, что советский космос был пронизан теми же самыми нотками антисемитизма, «еврейским юмором» и так далее. Вот стихотворение, которое я очень люблю, 1967 год:
Громыко сказал:
«местечковый базар».
Так и сказал?
— Да, так и сказал.
— Он можбыть сострил?
— Да, можбыть сострил.
— А больше он ничего не говорил?
— Нет, больше он ничего не говорил.
А у вас есть какие-нибудь любимые стихи на эту тему?
Знаете, когда тут меня совершенно переклинило. Потому что в этом стихотворении у меня тем две. Это евреи и война. Это два пласта у Сатуновского, которые в этом стихотворении сходятся, как две реки в одну. Я прочитаю одно стихотворение про войну, которое у Сатуновского совершенно сводит меня с ума, и одно стихотворение про евреев.
Однажды ко мне пристала корова.
Я был тогда прикомандирован
к дивизии. Рано утром, тишком, нишком,
добираюсь до передового пункта, и слышу:
кто-то за мной идёт
и дышит, как больной:
оборачиваюсь — корова;
рябая, двурогая; особых примет — нет.
Стихотворение кажется смешным, но из всех текстов про войну, в том числе из совершенно потрясающего «Как я их всех люблю (и их всех убьют)…» — почему для меня так важно это стихотворение? Потому что оно про то, как война пронизывает человека, въедается в него. Как ты всё время живёшь, пропитанный войной. Когда не можешь отличить шаги за спиной, четыре это ноги или две. Ведь это разные шаги. Но сам факт того, что кто-то идёт за тобой, так страшен и имеет такое огромное значение, что это остаётся с тобой навсегда. Настолько, что ты потом пишешь об этом стихи, и даже когда ты смотришь на корову, ты пытаешься вычислить в ней особые приметы. Как если бы тебя потом могли спросить, словно ты идёшь из разведки.
Фотогалерея библиотеки imwerden.de
Ян Сатуновский. Раз-два-три. Издательство «Детская литература», 1967 год. При жизни Сатуновского выходили только его книги для детей
Ян Сатуновский. Хочу ли я посмертной славы. Литературно-художественное агентство «ТОЗА», 1992 год
Ян Сатуновский. Рубленая проза. Собрание стихотворений. Издательство Otto Sagner, 1994 год
Ян Сатуновский. Раз-два-три. Издательство «Детская литература», 1967 год. При жизни Сатуновского выходили только его книги для детей
Ян Сатуновский. Хочу ли я посмертной славы. Литературно-художественное агентство «ТОЗА», 1992 год
Ян Сатуновский. Рубленая проза. Собрание стихотворений. Издательство Otto Sagner, 1994 год
Ян Сатуновский. Раз-два-три. Издательство «Детская литература», 1967 год. При жизни Сатуновского выходили только его книги для детей
Ян Сатуновский. Хочу ли я посмертной славы. Литературно-художественное агентство «ТОЗА», 1992 год
Ян Сатуновский. Рубленая проза. Собрание стихотворений. Издательство Otto Sagner, 1994 год
Очень важно, что эта тема у Сатуновского не первый раз встречается. Он ведь прожил свою жизнь тоже «без особых примет». Работал инженером-химиком, никогда не публиковался, ездил в Лианозово к друзьям-поэтам и с ними разговаривал. Но эта тема проявляется в его самых ранних текстах. Это «отсутствие особых примет» как опасная вещь.
Вчера, опаздывая на работу,
я встретил женщину, ползавшую по льду,
и поднял её, а потом подумал: — Ду-
рак, а вдруг она враг народа?
Вдруг! — а вдруг наоборот?
Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель?
Обыкновенная старуха на вате,
шут её разберёт.
Это стихотворение 1939 года, написанное как раз в такой атмосфере: не кто-то идёт за тобой сзади, а кто-то придёт за тобой за то, что ты поднял не того человека. Атмосфера тебя пропитывает, стихи сделаны этой атмосферой.
И как же страшно, что в 1946-м, когда со страной уже произошёл такой ужас, ты всё ещё живёшь в этом мире и понимаешь, что даже на корову ты смотришь такими же глазами, как на старуху, ползущую по льду. И ещё один текст, тоже про войну:
Кто вы?
— Репатриированные вдовы.
Так едко я хотел съязвить о них,
Но
не поворачивается язык.
Устав от гитлеровских зверств,
убийств, бомбёжек и насилий,
они приходят в офицерский сквер,
чтоб их не воспитывали, а любили.
Я не буду его комментировать, тут всё ясно, оно такое хрустально-прозрачное, что мне даже не хочется прикасаться к нему. Вся эта военная тема — в первую очередь в книге «Хочу ли я посмертной славы…», а потом она как будто всё время возвращается, благо что стихи датированы. Она вспыхивает в 1960-е, 1950-е, 1940-е.
Один сказал:
— Не больше и не меньше,
как начался раздел Польши.
Второй
страстно захохотал,
а третий головою помотал.
Четвёртый,
за, за, заикаясь, преподнёс:
— Раздел. Красотку. И в постель унёс.
Так мы учились говорить о смерти.
И это — 1940 год.
И становится понятно, что Сатуновский научил «говорить о смерти» несколько поколений. Причём очень разных поэтов. Владимир Гандельсман решительно не похож на Сатуновского: это поэт роскошно-барочный, блистательно версифицирующий. Но при этом у него есть стихотворение «Стоп-кадр», которое нам явно о технике Сатуновского напоминает:
Документальный фильм. Расстрел.
Вчера смотрел.Толкают в яму,
допустим, Зяму.Земля сыра.
В голове дыра.Теперь стоит раскидистое дерево.
Посёлок Зверево.
Посёлок Зверево. Да.