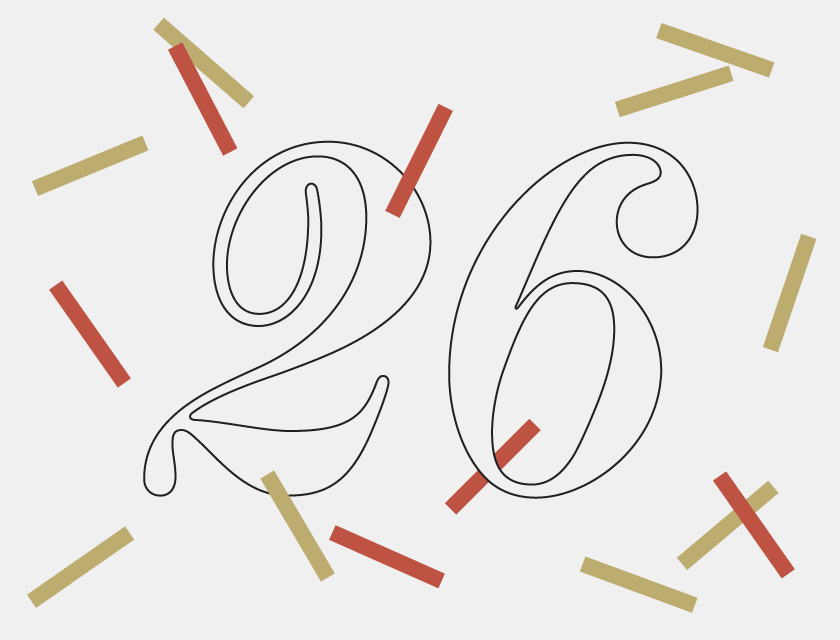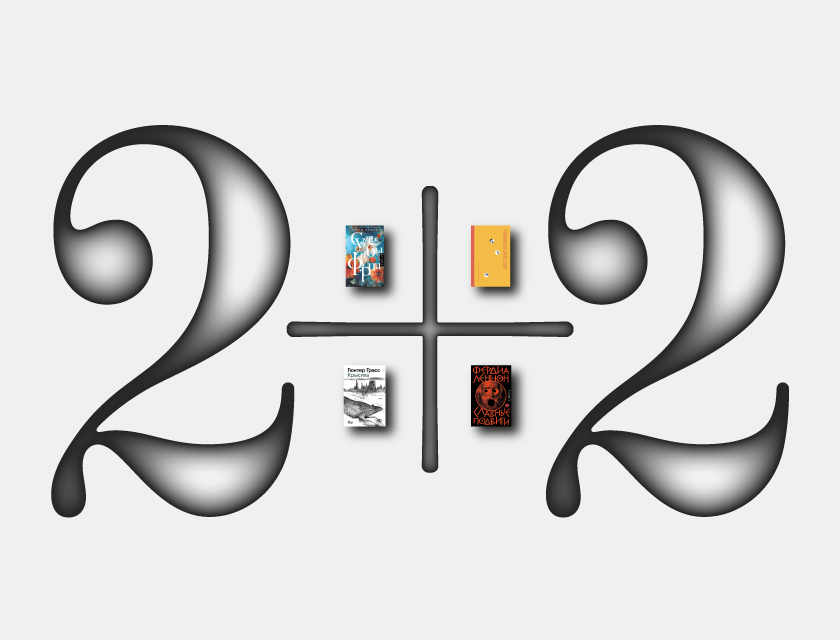Репринт: Кропоткин, распад, трепанация черепа
Мы снова рассказываем о долгожданных переизданиях книг, на которые стоит обратить внимание. В этом весеннем выпуске — собрание стихов поэта-сатириконовца Петра Потёмкина, исследование Натальи Громовой о советском критике Анатолии Тарасенкове, проза Сергея Гандлевского и политически пристрастные лекции о литературе основоположника анархизма — князя Петра Кропоткина.
Пётр Потёмкин. Полное собрание стихотворений
В ОГИ вышло собрание стихотворений Петра Потёмкина (1886–1926) — знаменитого при жизни и почти забытого впоследствии поэта. Потёмкин — юморист, создавший несколько поэтических масок, один из важнейших участников «Сатирикона», автор, которого ценили Брюсов и Маяковский (и не любил Блок). Тысячестраничный том, где с возможной полнотой собрано поэтическое наследие Потёмкина, составили и прокомментировали филологи Нора Букс и Игорь Лощилов. Стихи сопровождены обширными комментариями, которые сами по себе представляют интереснейший экскурс в культуру эпохи. Мы обратились к Норе Букс с просьбой рассказать о поэте и о новом издании его стихов.
Нора Букс:
Сначала несколько слов об авторе, чьи прекрасные поэтические тексты мы так долго и бережно собирали. Пётр Потёмкин (1886–1926) — яркий поэт Серебряного века, мастер тонкой иронии и новаторского стихотворного искусства. Это сегодня он мало знаком широкой публике — или в лучшем случае с его поэзией читатели знакомы фрагментарно. А у своих современников он пользовался большой популярностью. Потёмкин снискал славу уже первой своей книгой стихов «Смешная любовь» (1908), стал модным поэтом, сделался, по определению Валерия Брюсова, «маленьким мэтром». И хотя казалось, что он вышел из круга символистов, из окружения Блока, на самом деле он нанёс по эстетике символизма первый удар. «Смешная любовь» была абсолютно эстетской книгой. Стихи её, набранные по правому краю, демонстрировали виртуозное владение стихотворной техникой, но темы символизма Потёмкин спроецировал на фон массовой культуры. Его героиней была не Прекрасная Дама, а кукла в витрине парикмахерского салона. Но подлинным героем стихотворений Потёмкина стал Петербург, преподнесённый в стилистике литературных физиологий. И не случайно Иннокентий Анненский назвал Потёмкина поэтом нового Петербурга, а Михаил Гаспаров говорил, что современники считали его «одним из первых вульгаризаторов символизма».
В том же 1908-м Потёмкин стал сотрудником «Сатирикона», а с 1911-го — его лидером. Именно там оформился поворот поэта к массовой культуре, который проявился в его второй книге стихов «Герань» (1912).
Важным фактором для творчества Потёмкина стало появление в России всё в том же 1908 году новаторского театра-кабаре, быстро переименованного Александром Кугелем в театр миниатюр. Миниатюра была провозглашена новой формой сценического спектакля и драматического текста, исполняемого на малой сцене. Она диктовала новые темы, новые приёмы и нового актёра. 22-летний Потёмкин, приглашённый Всеволодом Мейерхольдом в кабаре «Лукоморье», стал автором первой пьесы российского кабаретного репертуара, а затем создал вместе с Константином Гибшманом для «Дома интермедий» Мейерхольда «негритянскую трагедию» «Блэк энд Уайт». Мандельштам назвал её «великой», миниатюра эта обошла все российские кабаретные сцены, а затем широко исполнялась в эмиграции и в нэпмановской России. Потёмкин быстро стал популярным драматургом театров миниатюр. Он писал для них пьесы в стихах, шансонетки, этакие маленькие, часто пародийные сценки, всегда остроумные и изящные. С открытием артистического кабаре «Бродячая собака» он стал его участником, автором, исполнителем и, как свидетельствуют мемуаристы, «его душой». Потёмкин был частью этой изысканной и вместе с тем массовой, развлекательной, искрящейся юмором культуры, исчезающей с началом войны и революции.
В эмиграции поэт Потёмкин предстаёт совершенно другим. Три его небольшие поэмы: «Переход», «Че-ка» и «Двое», а также ряд стихов, написанных в Праге и Париже, позволяют проследить, как прежние художественные приёмы — способность регистрировать в поэтическом тексте речь улицы, живые интонации говорящих, мастерское владение техникой ролевой лирики, неизменно оправленное иронией, — трансформируются и, достигая художественных высот трагедии, обрушиваются на читателя своим натуралистическим ужасом.
Мы собирали эту книгу около пятнадцати лет. Литературное наследие Петра Потёмкина в большей своей части оказалось распылённым в дореволюционной и эмигрантской периодике, часто труднодоступной, в архивах и частных коллекциях. За сто лет, миновавших со смерти Потёмкина, его поэтическое творчество не собиралось. В последние десятилетия его стихи проникали в печать гомеопатическими дозами, в антологиях, в редких журнальных публикациях. Наше собирание Потёмкина началось в 2009 году. Тогда мы обнаружили в архивах РГАЛИ его оставшийся неопубликованным сборник «Париж», куда вошли стихи 1913–1914 годов, и напечатали его в «Новом мире» (2009, № 9). За этим последовал ряд других публикаций. Практически все пьесы Потёмкина, некоторые его эссе и шансонетки вошли в составленные мною книги о кабаретной драматургии Серебряного века. Все эти книги вышли в ОГИ: «Кабаретные пьесы Серебряного века» (при участии в главе о Потёмкине Игоря Лощилова, 2018), «Театральные миниатюры Серебряного века» (2020), «История кабаре Серебряного века» (2021). Разыскания наши шли небыстро. Когда нам казалось, что корпус книги собран, внезапно всплывали новые, неучтённые стихотворения. Это продолжалось до самой последней минуты. Одно из них мы добыли, когда книга была уже в типографии. Благодаря нашему ответственному редактору Максиму Амелину его всё-таки удалось включить в корпус этого внушительного тома.
Собрание стихотворений Петра Потёмкина, издаваемое сегодня ОГИ, должно вернуть читателю наследие этого замечательного поэта — а Потёмкину, отныне представленному во всей полноте и художественном богатстве, предстоит занять полагающееся ему место в истории литературы Серебряного века.
Наталья Громова. Распад. Судьба советского критика
В немецком издательстве ISIA вышло переиздание книги литературоведа Натальи Громовой «Распад» — образцового исследования морали советской культуры на примере одного критика и его окружения. О книге рассказывает наш редактор Лев Оборин.
Лев Оборин:
«Распад» — отрезвляющая книга. Это не только биография советского критика и библиофила Анатолия Тарасенкова — фигуры, в общем, неочевидной и не самой важной в советском литературном процессе 1940–50-х, но и масштабное исследование культурной и моральной атмосферы позднего сталинизма. Об этой эпохе уже после книги Громовой вышло несколько отличных исследований, в частности двухтомник Евгения Добренко, но «Распад» остаётся ценным как case study, личная история, в которой хорошо видно, что делала власть с людьми — неглупыми, родившимися не для того, чтобы быть подлецами, но не сумевшими ничего противопоставить времени. Показательно, что символом моральной стойкости в этой книге выведен Пастернак, которым Тарасенков восхищался и от которого потом публично отрёкся. Когда Тарасенков в 1956 году умер, Пастернак сформулировал: «Сердце устало лгать».
В «Распаде» множество побочных сюжетов, обрисовывающих мир конформизма сталинской литературы: на этих страницах возникают культурные чиновники — Александр Фадеев, Корнелий Зелинский, глава отдела культуры ЦК Дмитрий Поликарпов, организатор травли Ахматовой и Зощенко Андрей Жданов, исполнители антисемитской кампании в советской печати; послушные линии партии литераторы — Маргарита Алигер, Всеволод Вишневский; немногочисленные сопротивляющиеся и жертвы. История Тарасенкова встраивается в эту логику, эту машинерию — притом что Громова показывает его всё-таки как живого человека.
Переиздание этой книги кажется сегодня своевременным. «В 2008 году, когда я писала «Распад», послевоенная история СССР, и в частности история культуры и литературы, казалась одним из самых мрачных и мёртвых периодов XX века, — рассказывает Громова. — Интеллигенция, идеологически обслуживающая Сталина, снова прошедшая через отравление ложью и безверием, жившая в условиях постоянных сделок с совестью, заплатила за свой страх слабостью будущих поколений, своих детей, которые с рождения уже были слабы и безжизненны, росли в постоянном ожидании опасности и не смогли выстроить свободный мир. Сегодня мы наблюдаем то же хождение по кругу, с движением к моральному и внутреннему распаду. Надежда одна: настоящее слово, пока существуют люди, убить нельзя. Оно продолжает расти, пробивая камни».
Сергей Гандлевский. Трепанация черепа. НРЗБ
«Азбука» переиздаёт прозу Сергея Гандлевского — его повесть «Трепанация черепа» и роман «НРЗБ». Есть довольно много читателей, для которых эти вещи не менее значимы, чем стихи Гандлевского. Автобиографическая «Трепанация черепа», открывающая читателям мир неподцензурной словесности конца 1970-х — начала 1990-х, и сатира на этот же мир, со всеми его обидами, амбициями и компромиссами, в «НРЗБ» — всё это либо узнаваемо для современников событий, либо познавательно для гуманитариев помладше. Переиздание комментирует редактор серии «Азбука.Голоса» Мария Нестеренко.
Мария Нестеренко:
«Трепанация черепа» и «НРЗБ» — яркий образец поэтической прозы. Тут можно было бы пуститься в рассуждения о её специфике, но делать этого совершенно не хочется, потому что два эти произведения настолько стилистически и ритмически выверены, что единственное, что можно сказать: прочтите сами.
А кроме того, «Трепанация» — это автофикциональная проза, в которой реально произошедшее и реальные люди спрятаны за вуалью вымысла. Как и во всяком хорошем художественном тексте, в этих двух вещах полноценным героем становится время. Особенно это характерно для «Трепанации», так что она вызовет острую ностальгию по началу 90-х у всех, кто застал эпоху.
Пётр Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе
АСТ переиздало курс лекций о русской литературе, прочитанный в США в начале XX века князем Петром Кропоткиным — выдающимся учёным и теоретиком анархизма. Многие идеи Кропоткина, подходившего к литературе в первую очередь с социально-политической точки зрения, в искажённом и упрощённом виде легли в основание советского литературоведения. О книге по нашей просьбе рассказывает редактор переиздания Татьяна Альбрехт.
Татьяна Альбрехт:
При упоминании имени Петра Алексеевича Кропоткина возникают разнообразные ассоциации, во многом зависящие от возраста, интересов и сферы деятельности человека. Москвич, несомненно, свяжет имя князя и название станции метро «Кропоткинская», человек, получивший образование в советскую эпоху, вспомнит о пламенном революционере и видном теоретике анархизма, идеями которого вдохновлялись молодые и не очень разрушители «старого мира», человек, увлечённый естественными науками, наверняка добавит, что, помимо манифестов и политических теорий, Пётр Алексеевич писал труды по геологии, руководил научными экспедициями, рецензировал книги иностранных учёных, историк расскажет о влиянии его идей на революционные процессы первой четверти ХХ века…
Но вряд ли многие свяжут имя Петра Кропоткина с литературоведением. А между тем связь существует, и самая непосредственная. Получивший великолепное образование князь был человеком широких интересов и кроме подготовки мировой революции занимался многими вещами и стремился просвещать других. Однажды ему пришло в голову прочесть цикл лекций по истории русской литературы иностранцам. Логичнее всего это было сделать в США — не только потому, что во многих странах Европы Кропоткин считался человеком неблагонадёжным, но и по той причине, что конкурентов среди других русских политэмигрантов за океаном было гораздо меньше. Курс вызвал живой интерес у американской публики. Может, из-за своеобразной репутации автора — русского князя с радикальными взглядами, политического эмигранта, совершившего побег из нескольких тюрем, а может быть, просто ничего подобного прежде в университетах Восточного побережья не читали — да и Россия оставалась для американцев экзотическим краем. Как бы то ни было, успех лекций подтолкнул Петра Алексеевича к созданию полновесного курса по истории русской литературы от Рюрика до современности — одной из первых попыток подобной систематизации.
Кропоткин писал свою книгу не как учёный, а как политик-практик. Потому и его оценки явлений и героев русской культуры весьма ангажированы. Это взгляд либерала-западника, убеждённого, что слияние с западной цивилизацией — единственный путь для России. Искусство и литература для него не самоценны, а важны лишь с точки зрения пользы или вреда для строительства нового мира. Главное дело литератора — участвовать в этом строительстве. Так что не стоит ждать от Кропоткина похвал блестяще написанным стихам, чудесным описаниям природы, интересным характерам и сюжетам. С его точки зрения, и творчество Пушкина чересчур легковесно, и Тургенев идейно вял, и поэзия Фета необязательна. Зато прекрасны писатели-народники — имена большинства из них сегодня мало кому известны.
Разумеется, такие оценки вызывают желание спорить. Парадоксально, но это одно из главных достоинств книги: хочется перечитать то или иное произведение, свериться с историческими фактами. А ещё стоит держать в уме, что Кропоткин был одним из безусловных авторитетов для наших революционеров — и многие его схемы, идеологические построения и гипотезы были восприняты ими фактически как аксиомы. Это помогает глубже проникнуть в менталитет тех, кто грезил мировой революцией, кто в 1917 году через колено ломал веками устоявшийся в России порядок, кто разрушал и на руинах пересоздавал культуру, идеологию, видение истории. Именно потому книга Петра Кропоткина о русской литературе — ещё и исторический документ. Даже поверхностно знакомый с советскими учебниками по гуманитарным предметам человек невольно отметит в этом курсе лекций много смутно знакомого и привычного — ярлыков, штампов, устойчивых выражений, намертво заученных в школьные годы определений. Так что читайте, смейтесь, негодуйте, спорьте — это поможет вам лучше разобраться не только в русской литературе, но и в нашей истории.