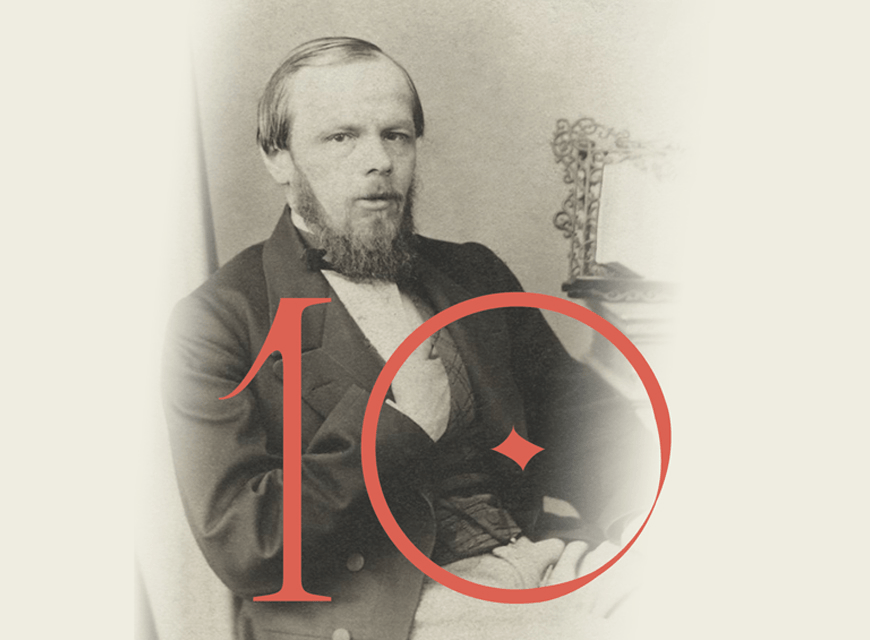В этом году Издательство Ивана Лимбаха отмечает своё тридцатилетие. Под руководством Ирины Кравцовой оно давно превратилось в важнейшую гуманитарную институцию — которая, к счастью, продолжает работать и в нынешних условиях. Редакция «Полки» решила написать о десяти любимых книгах издательства — и отбор был самой сложной задачей: хотелось вместить сюда как можно больше названий. Но правила есть правила — просто хочется посоветовать читателям не ограничиваться этой десяткой. Спасибо, ИИЛ, — и с юбилеем!
Лев Рубинштейн. Регулярное письмо (1996)
Самое полное на момент выхода собрание поэтических картотек Рубинштейна — от сугубо концептуалистского «Каталога комедийных новшеств» до пронзительной картотеки «Это я», которую очень много цитировали после смерти Льва Семёновича. В этих произведениях строгий формальный принцип то регулирует саму идею восприятия текста, то создаёт каталоги типичных — повседневных или подчёркнуто литературных — высказываний, то вызывает к жизни притягательную, сдвоенную интонацию иронии и сентиментальности. Одна из первых книг в поэтической серии Издательства Ивана Лимбаха: в ней вышли собрания, например, Олега Григорьева, Леонида Аронзона, Натальи Горбаневской, Олега Юрьева, а совсем недавно — Виктора Iванiва.
Кирилл Кобрин. Шерлок Холмс и рождение современности (2015)
Выдающаяся книга Кирилла Кобрина — собрание нескольких эссе о том, что холмсиана Конан Дойла есть линза, в которой сходятся лучи модерна, и лучи эти отнюдь не всегда благотворны. Несмотря на огромные перемены во всём — от исторических реалий и границ до гендерных ролей, моды и технологий, — мы во многом продолжаем жить в том же мире, что был знаком Холмсу и Уотсону, утверждает Кобрин. Благодаря его книге мы можем прочитать рассказы и романы о Шерлоке Холмсе не только как увлекательные детективы: в «Обряде дома Месгрейвов» отзывается новое отношение к истории, а в «Знаке четырёх» показана вся парадигма колониального мироустройства с его несправедливостью и жёсткой социальной иерархией. Отдельное эссе посвящено роли в этом обществе женщин, а в одном из лучших текстов Кобрин, сам напоминая сыщика, раскрывает исторический смысл «Второго пятна» — рассказа, в котором Холмс имел дело с высшими дипломатическими кругами Великобритании и предотвращал войну с помощью шпильки для волос; вероятно, современнику Конан Дойла этот сюжет представлялся достаточно прозрачным, но сегодня пояснения Кобрина оказываются весьма кстати. Отдельная цепочка рассуждений — о том, почему холмсиана так близка русским читателям.
Мирон Петровский. Книги нашего детства (2006)
Книга Мирона Петровского, возможно, самое глубокое исследование советской детской литературы. В «Лимбахе» вышло её второе, расширенное издание. «Книги нашего детства» — пять эссе об истории и подтексте пяти произведений: это «Крокодил» Корнея Чуковского, «Сказка о Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий» Маяковского, «Вот какой рассеянный» Маршака, «Золотой ключик» Алексея Толстого и «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Глава о Чуковском для Петровского — самая личная: он много занимался детской поэзией Чуковского и посвятил ей свою первую книгу. «Крокодил» предстаёт здесь текстом со сложной генеалогией и историей создания, в нём слышны отголоски исторических событий — и метров Лермонтова, Некрасова, Гумилёва. Невероятно увлекательна глава о «Золотом ключике», который Петровский трактует почти как роман с ключом: Алексей Толстой встраивает в сюжет Коллоди пародию на символистов, в первую очередь на Блока, выведенного в образе Пьеро, и добавляет сюда реминисценции из Льюиса Кэрролла. Эта трактовка после выхода «Книг нашего детства» стала, кажется, общепринятой.
Ольга Манулкина. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века (2010)
Самое масштабное на русском языке исследование американской академической музыки: весь XX век в хронологическом порядке, от Чарльза Айвза, которого можно назвать отцом-основателем всего американского музыкального модерна, до расцвета минимализма и нынешнего разнообразия стилей. Американская музыка здесь развивается бок о бок с историей — и реагирует на вызовы времени, в том числе на то, что советский критик назвал бы социальным заказом. На неё влияют популярные жанры, в том числе джаз и рок, — и она сама (в лице, например, Филипа Гласса) влияет на них. Она находится в общении с европейскими и русскими композиторами — такими как Стравинский и Рахманинов. Копланд, Гершвин, Фелдман, группа Bang on a Can, занимающий центральное положение в музыкальном XX веке Джон Кейдж, — Манулкина пишет о них подробно и увлекательно, создавая масштабную картину не просто музыки, но целой культуры.
Патрик Оуржедник. Европеана. Краткая история двадцатого века (2006)
В лимбаховской серии переводной прозы вышло много книг первого ряда: например, Рене Домаль, Чеслав Милош и Хуан Рамон Хименес. Роман Оуржедника — одна из самых переводимых книг в истории чешской литературы, на русский его замечательно перевела Екатерина Бобракова-Тимошкина. Всю историю самого страшного столетия Оуржедник перемешивает, постоянно переходя от одного факта к другому — и вынося на поля ключевые слова и события, как правило мрачные: «Немцы изобрели газ», «Лагеря для беженцев», «Атомная бомба», «Война никогда не кончается», «Преступление против человечности» — но, впрочем, и «Слияние с энергией» или «Молодые люди хотят заниматься сексом». Впечатление от этого текста такое, будто человеку, воспитанному на гуманистической традиции XVIII–XIX веков, сначала рассказали о художественных методах следующего столетия — в первую очередь о коллаже, — а затем изложили всё его историческое содержание и попросили пересказать его максимально компактно. Ошеломление, которое чувствует рассказчик, перед которым поставили такую задачу, передаётся и читателю — при этом Оуржедник постоянно пробует остужать поверхность этого кипящего вещества истории, пользуясь чуть отстранённым тоном, напоминающим прозу Воннегута.
Ольга Кушлина. Страстоцвет, или Петербургские подоконники (2001)
«Именно орхидея породила декадента, а не декадент — орхидею». «Страстоцвет» — это исследование взаимосвязи русской поэзии конца XIX — начала XX века и комнатного цветоводства. Именно в это время в Европу завозят причудливые, ни на что не похожие орхидеи и фикусы, криптомерии и бегонии, пальмы украшают ботанические сады и гостиные. Цветочная мода оказывает влияние на формы шляпок, цвета платьев и интерьеры. Комнатные растения становятся не только мерилом обывательских представлений о прекрасном, но и порождают ар-нуво, направляют творческую мысль декадентов и символистов.
Среди героев книги замечательного филолога — Блок и Тэффи, Брюсов и Сологуб, Гиппиус и Фет. А ещё — Макс Гесдёрфер, автор вышедшего в 1898 году пособия «Комнатное садоводство», ставшего настольной книгой и главным путеводителем в мир экзотической флоры для людей самого разного статуса и финансового положения. Работа Кушлиной — о том, как мир влияет на искусство, а искусство — на мир. Обаятельная, ужасно смешная и трогательная книга.
Ольга Седакова. Перевести Данте (2020)
Ольга Седакова — одна из важнейших фигур современной русской поэзии и перевода. Книга «Перевести Данте» появилась в результате многолетней работы Седаковой над подстрочником «Божественной комедии» и включила, помимо размышления о принципах современного перевода и комментирования, три главы из «Чистилища» и «Рая». Седакова не пытается соревноваться с Лозинским: признавая его поэтический перевод образцовым, она стремится создать максимально точный и снабжённый подробными разноплановыми комментариями перевод.
«Средневековье», «схоластика», «риторика» остаются у нас — даже в образованной среде — почти бранными словами. «Средневековье» в этом употреблении означает мракобесие, «схоластика» — пустое и формальное умствование, «риторика» — неискренность», — пишет Седакова. Одна из задач её перевода Данте — дать современному русскоязычному читателю представление о напряжённой философской, политической и богословской жизни Средних веков, отразившейся в «Комедии», то есть предоставить ему тот контекст, который был у образованных современников итальянского поэта.
Дик Свааб. Мы — это наш мозг (2010)
Мозг — «всеохватная книга», «театр в голове», музей, машина, церковный орган, компьютер и командный центр. Мозг — это мы. «Исследование мозга — не только поиски причин мозговых заболеваний, но также поиски ответа на вопрос, почему мы такие, какие мы есть, поиски самих себя», — уверен всемирно известный нейробиолог Дик Свааб, в течение тридцати лет возглавлявший Нидерландский институт мозга. В своей книге он излагает свои взгляды на связь мозга и морального поведения, сексуальности и концепции свободной воли; рассказывает о различиях мозга мужчин и женщин, азиатов и европейцев; опровергает распространённые мифы, к примеру, о том, что среднестатистический человек использует только десять процентов своего мозгового потенциала. Разговор о смерти и духе, агрессии и любви, природе чувств родителей и детей неизбежно становится не просто научным, но мировоззренческим, философским. Неслучайно эпиграфами к главам и разделам книги служат цитаты не только из Гиппократа, но и Сократа, Аристотеля, Руссо и Льва Толстого.
Лоран Бине. Седьмая функция языка (2019)
Академический детектив, конспирологическая шпионская проза, документальная сатирическая драма, пародия и метароман: «Седьмая функция языка» французского писателя Лорана Бине — подчёркнуто сложная, многослойная жанровая конструкция. Бине стремится сделать порой довольно туманные идеи постструктуралистов движущей силой сюжета, обращаясь при этом к огромному количеству текстов, причём не только научных, но и художественных — от «Приключений Шерлока Холмса» до «Улисса» и «Имени розы».
Дуэт детективов расследует альтернативную версию смерти философа Ролана Барта. Среди подозреваемых Мишель Фуко, Жак Деррида, Жиль Делёз, Юлия Кристева, вся интеллектуальная элита Европы второй половины XX века, а также всевозможные политические группировки. Целью убийц, по всей видимости, являлась рукопись «Седьмой функции языка», мифической работы одного из важнейших лингвистов XX века Романа Якобсона, единственный экземпляр которой якобы хранился у Барта. Изучив этот документ, можно получить почти колдовскую власть над умами и душами и заставить кого угодно сделать что угодно. Лингвистика как ключ к всевластию, академическое хулиганство как образ мышления, стирание граней между реальным и вымышленным как главный художественный принцип.
Михаил Аркадьев. Лингвистическая катастрофа (2011)
Книга известного композитора, теоретика музыки и философа, раскрывающая его оригинальную концепцию, согласно которой язык — первопричина исключительного положения человека в мире. Язык наделил человека самосознанием, он же предоставил нам знание о конечности нашего «я», и избавиться от этих непрошеных даров нам уже не дано. Понимание собственной отдельности — причина нашего одиночества, приближение смерти — наш постоянный страх. Исходный, неизбежный конфликт, проживаемый как каждым отдельным человеком, так и любыми человеческими сообществами, составляющий суть любой культуры и скрытую причину любой жестокости — ностальгия по утраченной наивности и невинности, тоска по доязыковому, досознательному состоянию, единственный путь к которому — смерть или полное разрушение психики. В этой парадигме любые воплощения целостности, любой миф о достижении идеала и гармонии становится в первую очередь символом смерти. Пугающий, противоречивый и провокационный текст.