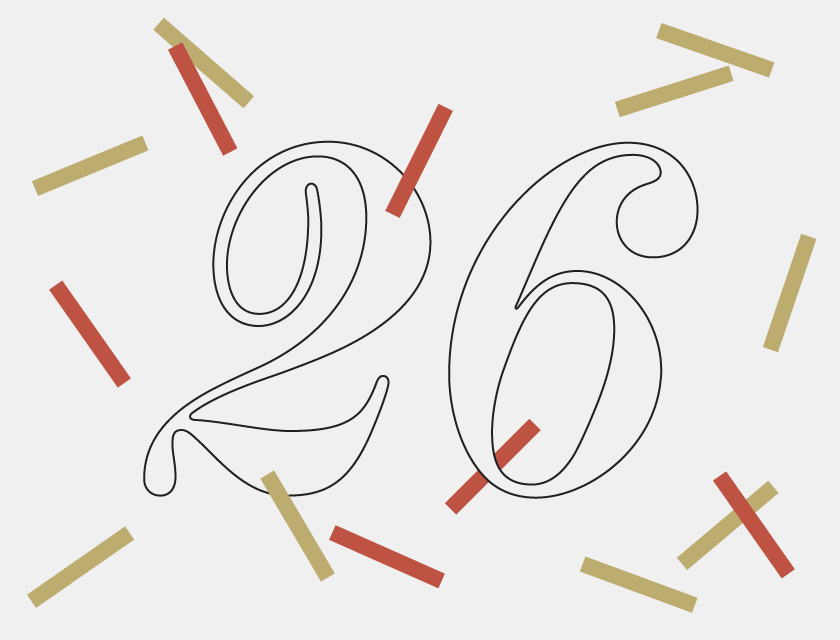Каждую неделю в России выходит множество книг, а «Полка» пишет о тех, которые считает самыми важными. На этой неделе мы рассказываем о «Кажется Эстер» Кати Петровской — переведённом с немецкого автофикшн-романе, в котором Петровская восстанавливает историю своей семьи и рассказывает о Холокосте, о войне, об избавлении от немоты и о памяти, которая не исчезает много десятилетий
В 2013 году Катя Петровская, русская журналистка с украинским паспортом и диссертацией по Ходасевичу, подала на конкурс премии Ингеборг Бахман (главной немецкоязычной писательницы XX века) маленькое эссе, отрывок будущей книги. Это был рассказ о прабабушке писательницы, — кажется, говорил отец, её звали Эстер, — которая в августе 1941 года осталась в Киеве, не уехала в эвакуацию. Когда немцы потребовали, чтобы все евреи явились к Бабьему Яру, Эстер вышла и пошла навстречу собственной смерти. Рассказ победил в конкурсе, а в 2014 году «Кажется Эстер» вышла в издательстве Suhrkamp, где издаётся вся классика немецкой литературы, и стала одной из самых успешных немецкоязычных книг этого десятилетия.
Сегодня роман «Кажется Эстер» переведён на 20 языков, завоевал несколько премий и получил исключительно хвалебные отзывы рецензентов всего мира, от немецких газет до обычно ехидной The Guardian, которая в случае Петровской захлёбывалась эпитетами: «замечательная книга», «у неё богатый слог, а сценки, которые она разыгрывает, завораживают». Язык Петровской, по мнению рецензентов, позволяет ей увидеть в невыносимой истории прошлого века не только ужас, но и красоту, и чудо. В интервью «Кольте» Петровская рассказывала, что не рассчитывала на такой успех: «вдруг вместо зала для камерной музыки ты оказываешься на стадионе». Возможно, именно камерность этого романа производит такой убедительный эффект на читателя: это искренняя попытка обратить Историю, Освенцим, Бабий Яр в комментарий к семейному фотоальбому одного еврейского рода.
Вот прадед Озиель Кржевин. Его считали чудотворцем, хотя он был всего лишь учителем. Он унаследовал от отца маленький пансионат для глухонемых детей и в 1915 году перевёз его из Варшавы в Киев. Вот двоюродный дедушка Иуда Штерн: он в 1932 году стрелял в германского посла. Вот дед Василий: он пропал во время войны и вернулся через сорок лет. Вот бабушка Роза, которая все эти сорок лет хранила его кожаное пальто и в войну заведовала домом сирот для детей-блокадников. Вот мама, преподавательница истории, и папа, родившийся раньше срока во время обыска. Живых участников этого семейства можно пересчитать по пальцам — сама книга вырастает из необходимости помнить и одновременно дописывать эту семейную историю. «В семи поколениях, говорила моя мать, двести лет мы обучали глухонемых детей говорить», — пишет Петровская. Её книга в первую очередь это опыт борьбы с немотой.
Запоздавший перевод вызывает вопросы: почему Петровская написала книгу на неродном для неё немецком, а не на русском языке или по крайней мере не перевела её сама? В послесловии писательница говорит, что первоначально наложила вето на русскую публикацию, она казалась ей невозможной. Ведь сам язык становится для неё способом «онеметь»: «чужой язык был своего рода выходом из однозначности судьбы». Побеждая язык, писательница смогла переприсвоить свою историю. В книге об этом говорится не раз — что она написана на немецком, поскольку по-русски это язык немых. Продолжая семейную историю, писательница выучивает этот язык немых, чтобы заговорить. И не всегда пользуется им в совершенстве — иногда и орфографическая ошибка становится частью письма (см. ниже). Переводчик Михаил Рудницкий придумал блистательное решение для этого парадокса чужого, немого языка. Он переводит его так, как переводил Петера Хандке, Гюнтера Грасса, Вальтера Беньямина, тем более что ко всем этим авторам есть отсылки внутри текста, во всём богатстве языка — как будто это часть немецкой традиции, а не наследство русской прозы. Так создаётся необходимое отстранение: рассказать свою историю так, как будто это история чужая.
«Кажется Эстер» имеет подзаголовок — истории, или, по-немецки, Geschichten, то есть её жанр одновременно подчёркивает и литературность, и правду рассказа. Одна из центральных историй — как в августе 1941 года, уезжая в эвакуацию, дед героини вынимает кадку с фикусом из набитого грузовика, чтобы посадить в грузовик своих сыновей. Про фикус рассказчица узнаёт от своего отца — но со временем эта деталь пропадает из отцовских рассказов, и отец сам уже не знает, придумал он его или он правда был. Фикус, который по-немецки Катя Петровская намеренно пишет с ошибкой, через k, Fikus, перерастает в Fiktion, фикцию, то есть литературу. Это необходимая надстройка чуда: автор может вообразить своё присутствие, достроить вымысел на фундаменте правды. Все они точно были — и Роза, и Василий, и учителя глухонемых, и Кажется Эстер. Но вот подробности: путь Эстер, то, как её отговаривали соседи (ведь она слишком стара), как она шла навстречу собственной гибели, очень медленно, словно Зенонова черепаха, и «чем медленнее она шла, тем невозможнее становилось её догнать, остановить, отвести назад», как не дошла до Бабьего Яра, потому что её застрелили по дороге, — всё это работа воображения, связывающая части повествования воедино.
Тем более что текст так и стремится распасться — он состоит из отдельных рассказов, иногда даже записей в одну-две строчки, песенок и стихов, заевших в сознании: того, что рассказчица называет «строительным мусором истории». Петровская переживает, что у неё нет продуманной стратегии: в попытке вернуть мертвецов к жизни она «читала случайные книги, ездила в случайные города, совершала ненужные действия». Но ведь ненужные действия оборачиваются настоящими чудесами: потерянные эпизоды семейной истории находятся, в разгар празднования Нового, 2011 года в квартире звонит телефон из Киева 1940-го, в пространстве тоненькой книги сходятся выжившие. Всё здесь, конечно, стратегия, ничего случайного: выбор языка, названия, формы, эпизодов. Закономерна и одна из финальных сцен-воспоминаний, где героиня танцует в Вене (откуда, как мы помним, и приехал её прадед) на танцевальном перформансе вместе с немцем Гансом, дедушка которого когда-то побывал в русском плену. Это в конечном счёте действительно оптимистичная история — именно потому, что это история частная.
Однако стоит вернуться к самому началу пути. Книга начинается на берлинском вокзале, «где гуляют сквозняки и взгляду не на чем остановиться и отдохнуть, кроме окружающего запустения, невозможно утешиться созерцанием привычной городской толчеи людей и строений, прежде чем уехать отсюда, из этой зияющей в самом центре города пустоты, которую никакое правительство ни грандиозными сооружениями, ни благими намерениями заполнить не в силах». Здесь вспоминаются «Кольца Сатурна» В. Г. Зебальда — тем более что к способу письма немецкого классика отсылает уже аннотация. Рассказчик у Зебальда «отправился в пешее путешествие по графству Суффолк, надеясь избавиться от охватившего его чувства пустоты», но путешествие окончилось нервным срывом от «ужаса от следов разрушения, ведущих глубоко в прошлое». А у Кати Петровской происходит ровно наоборот: все танцуют, жизнь продолжается.
И тут, кажется, дело в самом типе письма Петровской, которое как будто скрещивает разные типы литературного самопознания через путешествия. Есть путешествия Зебальда, барочные, богатые деталями. Или автофикшн (из недавних примеров на русском — «Рана» Оксаны Васякиной), где путешествие становится способом чистого погружения в собственный опыт, «кто я такая». Грандиозная «Памяти памяти» Марии Степановой напрашивается на сравнение, ведь она тоже про семейную историю, но и это другой тип путешествий. У Зебальда или Степановой герой — искушённый рассказчик. У них есть язык для истории, богатый инструментарий, и множество знаний, которыми она прирастает. «Кажется Эстер» написана принципиально наивно, с отсылками к строчкам «битлов» и рождественским песенкам. Петровская работает в романтической традиции: неискушённый герой приобретает опыт, становится собой в итоге странствия. Даже постоянное присутствие чуда в тексте — дань романтизму. И именно потому, что Петровская в конечном счёте пишет о себе (и даже память нужна здесь, чтобы переосознать «трагическое и разорванное пространство города» и всё на свете, от Истории до города, переприсвоить), с её методом письма так легко соотнестись.
Катя Петровская. Кажется Эстер / пер. с немецкого Михаила Рудницкого. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021.