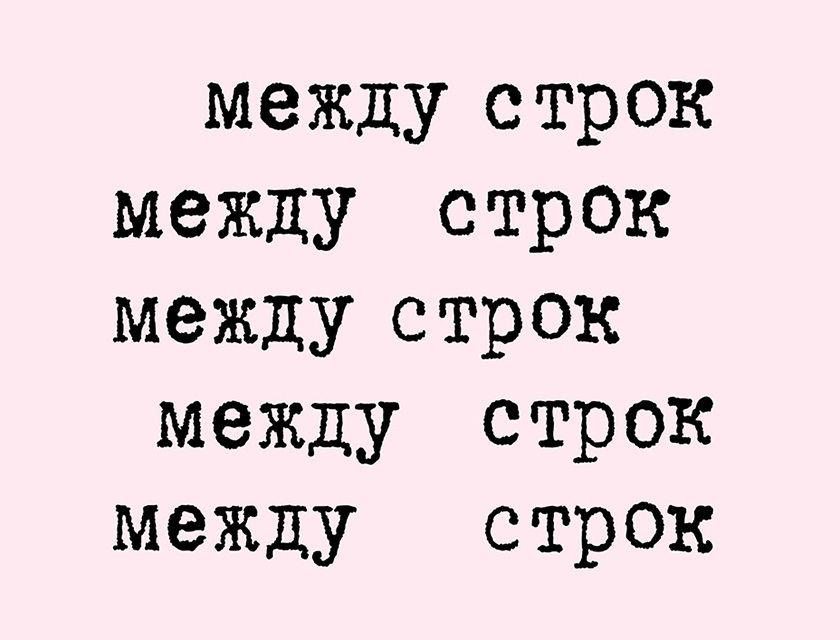6 декабря исполняется 120 лет со дня рождения Александра Введенского — великого поэта, чья произведения по-прежнему требуют новых, изобретательных прочтений. Пример такой филологической работы — вышедшая в прошлом году книга сербской исследовательницы, профессора Белградского университета Корнелии Ичин «Мерцающие миры Александра Введенского»: в ней собраны работы о поэте, созданные на протяжении нескольких десятилетий. «Полка» задала Корнелии Ичин несколько вопросов о важнейших идеях Введенского.
Фото Игоря Сида
Введенскому — 120. Как вам кажется, за время с предыдущего юбилея, который был в 2014-м, его место в истории русской поэзии стало яснее? Стали ли о Введенском больше понимать, стали ли его больше читать?
Настоящий юбилей был в 2004-м: 100-летие Введенского, которое двумя международными конференциями отметили Александр Кобринский в Петербурге и я в Белграде. С тех пор написано немало, но и не так уж много о Введенском. Его издавали, переводили. После двухтомных изданий «Ардиса» и «Гилеи», подготовленных Михаилом Мейлахом и Владимиром Эрлем, в 2011-м появляется книга Введенского «Всё», составленная Анной Герасимовой, перепечатываются его книги для детей. Введенского переводят на французский язык Жак Бурко, Мадлен Лежен и Кристин Зейтунян-Белоус, на английский — Евгений Осташевский и Матвей Янкелевич, я перевела все его «взрослые» сочинения на сербский язык в 2020-м. О месте Введенского в истории русской поэзии, кажется, не стоит задумываться. Это принципиально новый тип мышления. Все, кто читает Введенского, пытаются понять «великое непонимание», о котором говорит поэт, ибо оно заложено в основу человеческого существа.
Одна из волнующих меня идей в вашей книге — близость поэзии Введенского, на первый взгляд алогической, к концепциям физики XX века, к идеям относительности, неопределённости, к пересмотру концепции причинности. Можно ли сказать, что Введенский — реалист эпохи Эйнштейна и Шрёдингера?
Соответствия и созвучность налицо. Размышления о прерывности и непрерывности времени, о временной оси, о человеческом сознании в выстраивании мира, об измерениях, о пределах понимания, о не заканчивающихся событиях, о пульсе Вселенной и человека — всё это мы находим у Введенского. Однако нельзя забывать, что все эти идеи, встречающиеся у Пуанкаре, Минковского, Кантора,
Бугаева
Николай Васильевич Бугаев (1837–1903) — математик и философ. Отец писателя и поэта Андрея Белого (некоторые черты отца Белый сообщил Аблеухову-старшему из романа «Петербург»). Был председателем Московского математического общества, одним из основоположников Московской философско-математической школы. Специалист по математическому анализу и теории чисел. Был одним из самых влиятельных российских математиков своего времени, учителем многих крупных специалистов. Как философ испытал влияние Готфрида Лейбница.
или Флоренского, были связаны с чувством раздробленности мира, с ощущением логического тупика, с кризисным состоянием богооставленности, с потерей иллюзий, с онтологической расшатанностью человека, и это было то самое отчаяние, из которого рождалась литература абсурда. Наука, философия и искусство были устремлены к пониманию разлада в мире, в постижении которого оказалось необходимым отбросить до тех пор существующие понятия.
Свои основные темы Введенский обозначал как триаду: «Время — смерть — Бог». А что такое — если очень упрощённо — Бог для Введенского? Как Бог в его универсуме соотносится с религией, с верой?
Мёртвый господин, который молча удаляет время, — если говорить словами Введенского. Эта триада — триединое, его Троица. Три уму непостижимые ипостаси Одного. В мире, в котором Бог умер, при этом не только в понимании Ницше, высказанном в его «Весёлой науке», но и в господствующей советской идеологии, и Время как здешнее, и Смерть как трансцендентное оказываются мёртвыми для человека. В
«Серой тетради»
Школьная тетрадь в серой обложке, в которой Введенский записывал стихотворения и размышления, главным образом о времени и смерти.
Введенский пишет: «Последняя надежда — Христос Воскрес». Для него это единственная возможность преодолеть богооставленность и открыть бытие в Боге, ибо оно у Бога и от Бога.
В своё время я разговаривал об «Элегии» с Анной Герасимовой, и она тогда предостерегала от вчитывания, от зуда истолкования. Как вам кажется, нет ли в изучении обэриутской зауми, высокой бессмыслицы риска излишней семантизации?
«Элегия» как раз то стихотворение, в котором прочитывается русская поэтическая традиция, итоговое, предшествующее последнему его сочинению «Где. Когда». Видимо, поэтому
Друскин
Яков Семёнович Друскин (1902–1980) — философ, музыкант, литературовед. Был близок к кругу ОБЭРИУ и «Чинарей», дружил с Даниилом Хармсом, Александром Введенским, Николаем Олейниковым, Леонидом Липавским. Во время блокады Ленинграда спас из дома Хармса чемодан с его рукописями и рукописями Введенского, тем самым сохранив их наследие. Якову Друскину и его брату Михаилу посвящена повесть Полины Барсковой «Братья и Братья Друскины: история раздражения».
говорил, что тот, кто знает «Элегию», а не знает других текстов Введенского, совсем не знает Введенского. Тем не менее тексты Введенского явно призывают к «сотворчеству», к соучастию, к совместному мышлению. Они требуют нашей изобретательности. Поэтому тут не приходится говорить об излишней семантизации.
Ещё одна вещь, которая меня очень в вашей книге удивила, — сближение «Элегии» с «Первым философическим письмом» Чаадаева. Кому выносит приговор Введенский своим «мы»? Это не просто его круг, его поколение?
Поскольку это прощальное стихотворение Введенского, он вырисовывает картину безбожной России своего времени. Если Чаадаев давал отрицательную оценку истории России и русскому народу, который, по его словам, оставался далёким от европейской христианской культуры и своей отсталостью от просвещённой Европы служил лишь уроком всему миру, Введенский как бы в 1940-м подытоживает пройденный Россией путь — до отчуждённости от Божьего мира и движения к смерти.
Вы трактуете эротическую поэзию Введенского (в частности, в произведении «Куприянов и Наташа») как глубоко мифологическую; ваша книга начинается с основ космогонии, имён Гесиода,
Парменида
Парменид из Элеи (ок. 540 до н. э. — ок. 470 до н. э.) — древнегреческий философ, один из основателей метафизики, онтологии и гносеологии. В основе учения — тотальность Бытия (и отсутствие Небытия), примат разума над чувствами в познании.
,
Гигина
Гай Юлий Гигин (ок. 64 до н. э. — 17 н. э.) — древнеримский писатель и мифограф. Традиционно считается, что Гигин был вольноотпущенником, император Октавиан Август назначил его смотрителем Палатинской библиотеки. В книге «Мифы» Гигин вкратце систематизировал античные рассказы о происхождении мира, титанах, богах и героях; не все учёные считают, что эта книга в действительности принадлежит ему. Был также автором несохранившихся комментариев к Вергилию и трудов по сельскому хозяйству и пчеловодству.
. Мы действительно можем представить в этом ряду мифографов и философов Введенского, Хармса, Друскина,
Липавского
Леонид Савельевич Липавский (1904–1941) — философ, писатель. Работал в ленинградском отделении Госиздата. Был членом содружества поэтов и философов «Чинари» и литературной группы ОБЭРИУ. Липавским были записаны разговоры с участием Хармса, Олейникова, Заболоцкого, Введенского, Друскина. Автор книги «Исследование ужаса». Пропал без вести на фронте.
? Когда их сегодня называют классиками, — может быть, в этом есть и оттенок старого, античного смысла слова?
Стихотворения Введенского предстают перед нами как космогоническое сотворение мира, которое наблюдает только что созданный человек или вестник. В этом смысле я не могу поставить в один ряд с Введенским других чинарей. Опять-таки, учитывая философское осмысление творчества Хармса и Введенского Друскиным или же трактаты Липавского о воде, ужасе, слове, возникавшие под влиянием разговоров чинарей, мы понимаем, что речь идёт об их попытке дать «ключи» к пониманию самого процесса творения поэтического мира. Поэтому философы Друскин и Липавский могут предстать современными мифографами и грамматиками.
Может быть, древние — космогонисты, а обэриуты — эсхатологи? Не хотел ли Введенский сделать для конца мира то же, что мифографы древности для его начала?
Это очень интересная мысль. Одержимость Введенского идеей Конца располагала к эсхатологии, к трансцендентному, к метафизическому. «Чтобы было всё понятно / Надо жить начать обратно» — так говорит Введенский. Его толкование мира начинается с конца, в духе пьесы «Мирсконца» Хлебникова с вывернутым наизнанку временем, он бросает свет «оттуда» на «немногочисленную землю». Лучшими примерами могут послужить «Потец» и «Где. Когда». В пьесе «Потец» сыновья в разговоре с умирающим отцом разгадывают тайну смерти и загробного мира, в котором родитель предстаёт детской «косточкой». В сочинении «Где. Когда» тема смерти поэта и его превращения в памятник передаётся сменой прощания одного с безлюдным миром и безлюдного мира с одним. Мир остаётся один. Ждёт рождения нового человека.
Распространено мнение, что, в отличие от Хармса, детская поэзия была для Введенского чуть ли не халтурой — и это чувствуется в текстах. Вы, насколько я понял, не высказываете критического суждения об этом. Вы с этим не согласны?
Я писала о сотрудничестве Введенского с художниками круга Малевича и Филонова над детскими изданиями. Меня интересовало художественное оформление его книг для детей. Поэзии я касалась постольку, поскольку это было необходимо. Я не могу согласиться с мнением, что стихи Введенского для детей — это халтура. Они, в отличие от хармсовских стихотворений для детей, не были собраны и опубликованы в его книгах. Так и вышло, что «взрослые» стихи стали считать поэзией, а «детские» — халтурой. Можно прочитать стихотворения «Кто?», «Железная дорога» или «Два класса учителя Басса» и убедиться в том, что никакой халтуры там нет.
Ваша книга завершается воображаемым цитатным диалогом с Введенским. Часто ли вы ведёте такие диалоги с поэтами, о которых пишете? Или Введенский здесь — особенный?
Диалог с Введенским возник вместо послесловия. Это была попытка вести живую воображаемую беседу, продолжить разговор о главном, процитировать то, что не прозвучало в книге, пригласить к исследованию творчества Введенского других читателей. Диалог с поэтом — это ключевое, в слове осуществляется встреча. «Поэтический житель человек на этой земле», как сказал бы Гёльдерлин. По-другому осуществлялся разговор, когда я 30 лет назад писала книгу о Гумилёве: встречи были во сне. Но воображаемый диалог всегда присутствует.