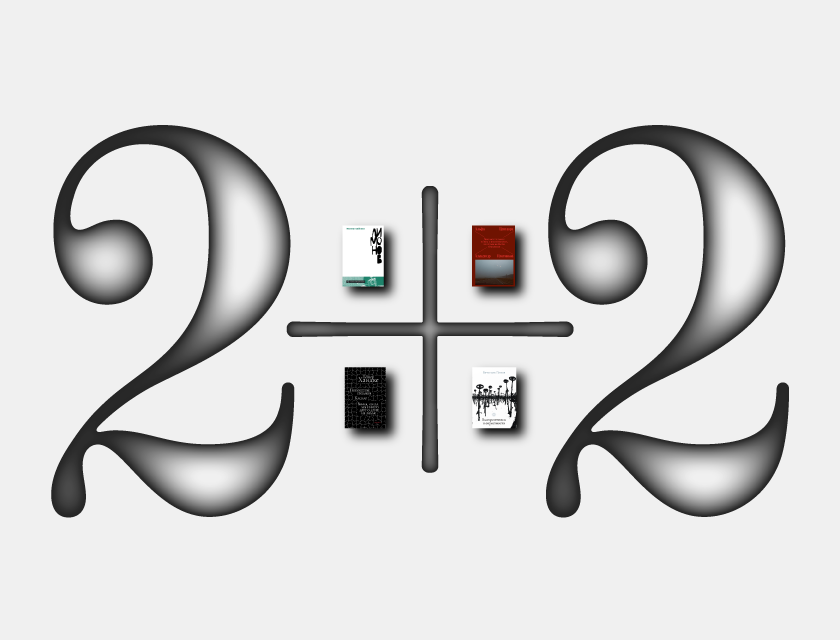В рубрике «2+2» редакторы «Полки» Лев Оборин и Алёна Фокеева рассказывают о новых книгах. В очередном выпуске — экспериментальная проза Саши Мороз, книга эссе Ольги Балла о путешествиях, «русский роман» американской поэтессы Лин Хеджинян и антология современной итальянской драмы.
Саша Мороз. Кучки небесные. М.: Ibicus Press, 2025.
Первые две книги Саши Мороз «Я//ой» были сугубо поэтическими; третья, «Кучки небесные», — книга прозы или, может быть, поэзии в прозе. Эпиграф к ней взят из Андрея Левкина — писателя, всегда увлечённого описанием самого процесса мышления. Этот процесс может сопутствовать сюжетной канве (чтения, прогулки, поездки): мышление высвечивает свой предмет, отвлекается на рассказывание историй, но настаивает на том, что оно интересно само по себе. Оно может не пользоваться «лучшими словами в лучшем порядке», взвешенными на аптекарских весах, а использовать слова-костыли, слова-заглушки, слова-паразиты, если они облегчают понимание.
В истории философии бывают периоды, когда на передний план выходит эпистемология, то есть вопросы, связанные с тем, как мы познаём. В литературе этому соответствует вопрос «как мы пишем» — ключевой и для модернизма, и для постмодернизма. Самые яркие тексты в книге Саши Мороз заняты тем же, что так любил Левкин: они подмечают повороты и развилки текстопорождения. Читателю предлагается встать на чьё-то место, а потом на чьё-то ещё. Двигаться с разными скоростями, «мыслить слоями» (это напрямую связано с тем, что с нашими текстовыми практиками сделал компьютер), перематывать назад. Придумывать метафору для самой метафоры. Превращать в элемент литературы буквально всё — каждого встречного: «Пусть кто-то попытается высказаться. Например, маргиналы и бездомные. Пусть это будет человек на улице, где я живу», — с тем чтобы через сколько-то страниц вернуться от объектов к субъектам:
Так становится жаль! Сомневающихся, сомнительных, не поверивших и не понявших, зачем капитализм, коммунизм, ни тому, ни другому не нужных. Больных и сиплых, не радых, но ходящих, инвалидов. Художников, не умеющих зарабатывать, верящих твёрдо, но неспособных спасти своё или себя. Женщин с пергидрольными кудряшками и поблёкшим пакетом. Это все мы, конечно.
Далее читателю предлагается осознавать, что для простой лингвистической операции нужно «изучить матчасть» (а в реальности другого текста этого совершенно не требуется). Фрагментировать. Составлять списки. Обрывать чтение, когда вдруг становится ясно, что сказано достаточно: «Ну и будет. Описано». Превращаться в ребёнка-исследователя. Бывают игры лингвистические, бывают компьютерные, а бывают детские — подобно тому, как у Борхеса бывают животные набальзамированные, а бывают принадлежающие Императору. Сбой логической субординации — приём, с которым Саше Мороз по дороге.
Словом, она продолжает очень значимую и очень недооценённую, если угодно — альтернативную линию русской прозы, связанную не только с Левкиным, но и с Павлом Улитиным, Леоном Богдановым, Виктором Ковалём, Александром Ильяненом. В прозе этого толка, даже когда у неё есть внешние признаки сюжета, действие часто абсурдно или ритуально — от этого возникает желание как-то его упорядочить или рационализировать. И эта рационализация параллельна той, что приходит в голову «обычным людям».
Например, рассказ «Фиолетовые цветы». У некоего действия, — например, фотографировать могилы «для каталога, чтобы родственники не поливали цветы на чужом покойнике», — наверняка есть какое-то рутинное обоснование: собственно, оно частично здесь и названо, но дневник исполнения этой странной работы и сопутствующие кладбищенские наблюдения оказываются ценны сами по себе, как чистая фиксация. «Чтобы сфотографировать 500 000 могил, потребуется чуть больше полутора месяцев. Впечатляет. Это, конечно, не 500 000 солдат, здесь все вперемешку, много перезахороненных, мирные жители, попы, братки, учёные». Конец всей этой работы, что называется, немного предсказуем — «Бригаду расформировали, фотографии не приняли, денег не заплатили», — зато в параллельном текстовом мире остался её след.
Тяга к протоколированию случайных вещей напоминает о французском «новом романе», который в своей тотальности бывает монструозен, даже если речь идёт о компактном тексте. Этого соблазна «крупной прозы» 176-страничная книга Мороз тоже счастливо избегает. Она разделена на короткие тексты, и тексты эти тоже зримо разделены — на подглавки, пункты диалога, разреженные интервалами абзацы. Аннотация определяет книгу как «коллекцию разножанровых артефактов» — в общем верно: есть тут и абсурдистские разговоры («Щепки»), и тяготеющие к абстракции зарисовки («Люди», «Часть случая»), и приглушённый любовный рассказ (замечательный «Тимофеев»), и любовный рассказ в духе «Лысой певицы» Ионеско («Секс», состоящий из стандартных фраз учебника иностранного языка). Есть пародии на ту прозу, которая в девяностые называлась «чернухой», и «чернуха» вполне непародийная, основанная на трагическом личном опыте. Но всё-таки кое-что их, артефакты, объединяет. Это, повторимся, отношение к миру как тексту — не как у Деррида, а вообще как у писателя, писателя-как-человеческого-типа. И если артефакт остаётся на уровне наброска или записной книжки (а не сублимируется, допустим, до толстого романа), то такой автор, как Мороз, спросит: «А зачем нужно что-то ещё?» Потому что «как мы пишем» — это в самом деле один из вариантов вопроса «как мы думаем» или «как мы познаём». Ответ на него индивидуален, и к нему уже подвёрстываются следующие вопросы: «что нам интересно» и «что у нас болит».
— Л. О.
Ольга Балла. Дома и бездомья. СПб.: Пальмира; М.: T8RUGRAM, 2025.
Ольга Балла известна прежде всего как неутомимый рецензент, внимательно и глубоко анализирующий поэзию, прозу и нон-фикшн. В «Домах и бездомьях» рецензии тоже есть: даже убранные в раздел «Постскриптум», они составляют основной объём книги, и это само по себе памятник большому труду. Но рецензии эти подчинены основной теме: познанию пространства. Ядро книги — эссеистика, посвящённая путешествию, перемене мест как важнейшему человеческому опыту. Он сродни тем обрядам перехода, о которых писал в своей классической книге антрополог Арнольд ван Геннеп. Эти обряды исключительно важны для традиционных обществ, но их влияние никуда не делось и сегодня: ими обставляются брак, рождение детей, похороны, включение в социальные структуры от школы до армии. Путешествие — тоже универсальный опыт (дорога — «состояние-посредник между двумя главными состояниями человека: Домом и Бездомьем»), но, в отличие от инициации, он обратим: чаще всего путешественник может вернуться обратно, — конечно, заметив, что в его отсутствие дома что-то изменилось.
Ещё важнее, что каждого человека путешествие будоражит по-своему: как минимум начиная с Нового времени этот обряд перехода — глубоко индивидуальный. Он делится на множество мелких ритуалов и ментально-физиологических реакций, и это ещё сильнее его обособляет. В рецензии на книгу Карла Шлёгеля «Постигая Москву» Балла пишет: «На самом деле таких книг о любом городе может быть написано бесконечное множество. Едва ли не столько же, сколько существует людей, переживших этот город как личное событие». А с другой стороны, описание личного переживания способно моментально «схлопнуть» дистанцию между автором и читателем (о таком эффекте Балла пишет применительно к Вальтеру Беньямину). Это позволяет читателю самому походить по улицам города как бы с кинокамерой, одолженной на время, — и тогда травелог становится ролевой игрой. Между этими модусами чтения — отчуждением и освоением — и существует читатель, который волей-неволей соотносит свой опыт с чужим, а взяв в руки книгу, находится одновременно в нескольких пространствах. Особенно любопытно, конечно, что происходит с тем, кто читает в пути: как говорят торговцы в электричках, «для тех, кто не привык скучать в дороге…»
Что, собственно, остаётся в памяти от путешествия, что человек действительно успевает узнать и понять про другое место — даже если прикасается к самой его поверхности? Как родной город соотносится с ощущением себя в пространстве — вполне физиологическим? Чем путешествие отличается от поездки (именно это слово Балла предпочитает), паломничества, прогулки, тем более — от бабушки эмиграции и внучки релокации? Об этом и написана книга Балла. Она делится на несколько частей: в первой, «Дома», — три эссе об отношениях с Москвой, главным здесь городом, точкой (вернее, множеством точек) отсчёта; во второй, «Между домом и бездомьем», — эссе о долгих и сложных отношениях с «очень тревожной» Прагой; в третьей, «Бездомья», — проза и путевые заметки о нескольких городах и местностях России: Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Пермском крае. Ещё есть приложение: это тексты, которые можно охарактеризовать как черновики травелогов, и, собственно, большой блок рецензий под названием «Читая чужие дороги». Среди авторов, о которых идёт речь, — Чеслав Милош, Пётр Вайль, Кирилл Кобрин, Макс Фрай, Рустам Рахматуллин, Ольга Седакова, Андрей Левкин, Дмитрий Бавильский... Впрочем, тут не только проза и эссеистика — есть и академическая география и урбанистика.
Хотя концептуальная рамка «Домов и бездомий» может показаться механической, мне хочется поставить эту книгу рядом с другими текстами, исследующими наши передвижения и отношения с местами. Например, с прозой Дмитрия Данилова (например, «Описанием города» или сборником «Двадцать городов», который Балла рецензирует), эссеистикой Дмитрия Замятина, «Поэтикой пространства» Гастона Башляра, даже с «Эросом Москвы» Владимира Сорокина. С этим последним эссе легко сопоставить «Световую топографию» Балла, рассказывающей о «светлых» и «тёмных», «сухих» и «влажных», «прозрачных» и «дымчатых», «простых» и «сложных» московских пространствах. Её восприятие — синестезия путешествующего, стремление, иногда несколько экзальтированное, ощутить место всеми органами чувств, признание своей неразделимости с местом: «Москва — один из моих собственных обликов… <…> Между мною и Москвой нет границ». Оборотной стороной здесь становится острое разочарование от коммуникации, которая не наладилась: «Прага — город-собеседник, который меня не слушал». Дело в том — возвращаемся к эросу, — что и сами города, согласно Балла, — огромные, разросшиеся органы чувств. «Потребность в странствиях, — пишет Балла, — прежде всего телесна», и поэтому то, что делает город с человеком, — смесь физики и метафизики: «Нижний Новгород… утверждает и укореняет… Петербург — властно оформляет, обостряет, уточняет». Что имеется в виду в таких формулах, не всегда понятно: тут как раз, претендуя на универсальность, Балла говорит только о своём, не до конца формализованном переживании. Но в силе переживания сомневаться не приходится.
Интересно сопоставить его с тем, как город (ту же Москву) узнаёт иностранец (тот же Шлёгель). В этих двух видах опыта в самом деле много эротического — как в знании собственного тела и понимании отличий чужого. Или как в разнице между рассматриванием отдельных частей облика — и уверенным, долгим, любовным знанием целого. О любви в «Домах и бездомьях» сказано много, — пожалуй, можно вывести классификацию романтических чувств к городам и поездкам, подобную древнегреческим четырём разновидностям любви. Как в большинстве любовных отношений, тут есть и расставания, и за частными случаями стоит куда более зловещая фигура расставания с идеей поездки вообще — в мире и стране, которые всё более враждебны к открытости. Страна за несколько лет изменилась так, что отчёт о проникновении в сложную городскую антропологию недавнего прошлого читается как исторический источник. Но «единственное, чего любовь не предполагает, — это равнодушия». Его тут и нет — ни в текстах Ольги Балла, ни в книгах, о которых она пишет.
— Л. О.
Лин Хеджинян. Охота. Краткий русский роман / пер. с англ. Руслана Миронова. Носорог, 2025
«Люди опять декламируют Пушкина, подобно гиенам»
«Поэзия с прозой в различении не нуждаются», — пишет Хеджинян в «Охоте», и это один из основных постулатов «языковой школы», сформировавшейся в 70-х вокруг журнала L=A=N=G=U=A=G=E. Её представители стремились преодолеть разрывы в языковой ткани, отказавшись от повествовательности и однозначных трактовок, занимались исследованием письма как такового. Вот и маленький русский «роман» Хеджинян — и проза, и поэзия, и эссе, и дневниковые заметки «о ленинградском свете и о погоде».
Чарующая зимняя погода вызвала к жизни хлебные крошки, чтобы
старики, женщины, дети, отцы, кагэбэшники, аппаратчики
туристы, буряты, националисты, хулиганы, казаки и журналисты
могли их подбрасывать
Хеджинян много раз была в Ленинграде — и очень тесно сошлась с кругом ленинградских поэтов, в особенности с Аркадием Драгомощенко, чьи стихи переводила на английский. Именно ему и его жене Зине она и посвятила «Охоту», и оба они постоянно мелькают в тексте, делятся открытиями и снами, спорят, шепчут что-то смешное на ухо. Впрочем, на внимание читателя (и автора) претендуют не только ленинградские друзья Хеджинян, но и Достоевский, Бунин, некая старуха, полковник и множество других людей всем знакомых и совсем безвестных.
Найдётся ли в таком Ленинграде какой-никакой
предрасположенный слушатель
Он не требует представления
Он никто — или лишь кто-то
Есть лишь интервалы, которые можно увидеть, — частицы
и интервалы
Существует ли что-нибудь промежуточно-русское?
Ни один из наших известных писателей не был русским, сказал
Василий
Пушкин
Он африканский
Эту работу характеризует множество обособленных продолжений
И фобия Гоголя
Навязчивая
Действительность умоляла, если Гоголь не мог поздороваться
Он был в ужасе от того, что его похоронят заживо
Есть доказательства, что только он был оправдан
«Охота» состоит из четырнадцатистрочных глав, что отсылает нас в онегинской строфе. Хеджинян обращается к «Онегину» не только как к одному из главных текстов русской культуры, но и (может быть, в первую очередь) как к первому русскому метароману. Вступая в диалог с Пушкиным, Хеджинян на самом деле вступает в разговор со всей традицией русскоязычного письма и языковой саморефлексии. Для Хеджинян, так же как и для всех поэтов «языковой школы» и важнейшего для них писателя Гертруды Стайн, сущность и природа языка (своего и чужого) — главная и неисчерпаемая тема для размышления.
Неразрешённые парадоксы, пустынные бездыханные обледеневшие
улицы, приближающиеся катастрофы и никого подходящего
любовь, не представленная интригой
Это Зина и назвала охотой
— А. Ф.
Бездна. Антология современной итальянской драматургии. М.: Носорог, 2025.
Антология состоит из пяти пьес, которые (помимо современности и итальянскости) объединяет ещё и стремление драматургов к напряжённому сотворчеству с актёрами и зрителями. Пьесы, появившиеся в результате такого сотворчества, — практически всегда о самом больном и болезненном. Возможно ли остановить системное насилие? Что помнят итальянцы о режиме Муссолини? Что сделает мир с женщиной, готовой на всё ради мечты? И что она сама с собой сделает? Всегда ли мы будем помнить наших мёртвых? Как жить, понимая, что ежегодно в море, видном из твоего окна, не добравшись до твоей родины, умирают тысячи беженцев?
О том, что ещё сближает эти тексты, — о главных тенденциях современного итальянского театра, в том числе контркультурности, социальности, интересе к перформансу, — в предисловии к сборнику подробно рассказывают его составители Дориана Ледже и Габриэле София. Нам остаётся сказать несколько слов о самих пьесах.
Название пьесы Фаусто Паравидино отсылает к комиксам о похождениях Чарли Брауна и его пса Снупи. «Peanuts» разделена на маленькие сценки, каждая из них — отдельная история с собственной экспозицией, кульминацией и развязкой, как это было и в комиксах Чарльза Шульца. В первой половине пьесы главные герои совсем юны: выясняют, можно ли приходить в гости в дом, где нет хозяев, ругаются из-за выбора газировки, крушат бытовую технику и дразнят друг друга. А вот во второй те же самые Бадди, Синди, Хрюша и прочие — уже взрослые. И встречаются они в полицейском участке.
Сценка за сценкой — допросы, побои, угрозы, издёвки. Самое страшное — ощущение того, что время ничего не изменит, через пять, десять или пятнадцать лет всё останется так же. Оригинальный «Peanuts» выходил ежедневно на протяжении пятидесяти лет, а старый добрый Чарли Браун так и остался ребёнком, живущим в тесных панельках комикса по придуманным автором правилам.
Пьеса «Подпольное радио. Воспоминания об Ардеатинских пещерах» Асканио Челестини посвящена механизмам исторической памяти и взаимосвязи между семейной историей и историей народа. Познакомившись с не умеющей читать старушкой, герой Челестини вспоминает о своём деде, который по просьбам неграмотных жителей Рима читал им новости из газеты. Одно из объявлений было таким: «23 марта 1944 года было совершено нападение, в результате которого взорвалась бомба, брошенная в колонну немецкой полиции, проходившую по виа Разелла. В результате засады было убито 32 немецких полицейских, многие были ранены. В связи с этим немецкое командование отдаёт распоряжение расстрелять по десять коммунистов-бадольянцев за каждого убитого немца. Приговор уже приведён в исполнение».
Массовый расстрел в Ардеатинских пещерах становится центром полотна, изображающего жизнь оккупированного фашистами Рима. Но чтобы рассказать об оккупации Рима, придётся рассказать и о времени, когда Рим стал столицей Королевства Италия. Чтобы объяснить, кто стал жертвами расстрела, нужно сначала обсудить, какие люди в каких районах города жили. Чтобы понять реакцию людей на сообщение об этой казни, нужно показать, как они реагировали на сирены перед бомбардировкой. «Если хотите, я расскажу вам эту историю. Я мог бы сначала рассказать её вкратце, за одну минуту. А потом, если у вас найдётся время, я расскажу вам и длинную версию, и на это уйдёт целая неделя».
В середине антологии расположилось «Дерьмо» Кристиана Черезоли — самая провокационная пьеса в антологии, не раз подпадавшая под цензуру и в то же время, наверное, самая известная. Голая женщина стоит на сцене в свете софитов и говорит, что мечтает стать актрисой. Переродиться, стать уверенной, успешной, ослепительной. Получить признание, перестать вызывать у мамы скептические замечания. Сделает для этого всё что угодно. Но чем дальше мы продвигаемся вглубь пьесы, тем яснее становится, что патриархальной системе и её представителям глубоко безразлично, готова ли женщина к жертвам: они сами возьмут всё, что захотят. Попытка женщины сложить личный миф издевательски сливается с итальянской национальной идеей, пафосом борьбы и терпения. «Это трагедия в трёх частях: Ляжки, Член, Слава — и в качестве контртемы: Италия». Драматургу удаётся поднять эмоциональную планку очень высоко, и главная эмоция в пьесе — ярость. «какие у неё отстойные фотки, ха-ха, тунцовые ляхи, ха-ха, тунец, ту-уне-е-ец, говорит другой, да, тунец, или русалка, как говорил папа, ляжки как у русалки, ха-ха, а как насчёт перепихона, эй, моя bambina, говорит первый, почему бы и нет, отвечает второй, только пока она дышит, ха-ха, дышит, ха-ха, отпадная шутка, ха-ха, умора, да-да, перепихон, ха-ха-ха, боже, вот умора, сейчас лопну от смеха, ха-ха, но мне не до смеха, я стою там и сопротивляюсь, потому что именно благодаря Движению Сопротивления существует наша страна»
Предпоследняя пьеса антологии — «драма разума» Лючии Каламаро «Замершая жизнь» о сложных взаимоотношениях живых и мёртвых. Покойная жена требует от мужа не просто не забывать её, но сохранить в памяти такой, какой она была при жизни — со всеми сложностями, нюансами и противоречиями. Их дочка играет в маму, воспроизводя врезавшиеся в память диалоги родителей. Отец, кажется, больше всего хочет любым способом выскользнуть из этой ситуации. И ещё — чтобы его звали полным именем. Не Ричи, а Риккардо. И все трое не знают, что делать дальше. Держаться за воспоминания? Отпустить их? Смириться? «...каким я был прежде? Пять минуть назад? Я был очень даже ничего, разве нет?» — спрашивает Риккардо, напоминая, что человек не равен ни самому себе, ни сумме воспоминаний о нём.
«Бездна» Давиде Эниа, давшая имя антологии, по формальным признакам напоминает скорее автофикшн-рассказ, чем пьесу. Мужчина отправляется на остров Лампедуза, чтобы собрать материалы об африканских беженцах, и в качестве фотографа берёт с собой отца. Сталкиваясь со свидетелями и свидетельствами смертей, пыток и изнасилований, проживая в то же время собственную семейную драму, герои учатся и говорить, и молчать на самые страшные темы.
Антология получилась совсем небольшая — двести с чем-то страничек. Претендовать на подробность она не может, близкого знакомства с итальянской драматургией не обещает. Но обзорная экскурсия по современным театральным достопримечательностям Италии всё равно получилась впечатляющей. И, конечно, отдельное удовольствие — искать смысловые и формальные переклички между успешными новыми итальянскими пьесами и текстами, формирующими современный репертуар российских театров.
— А. Ф.