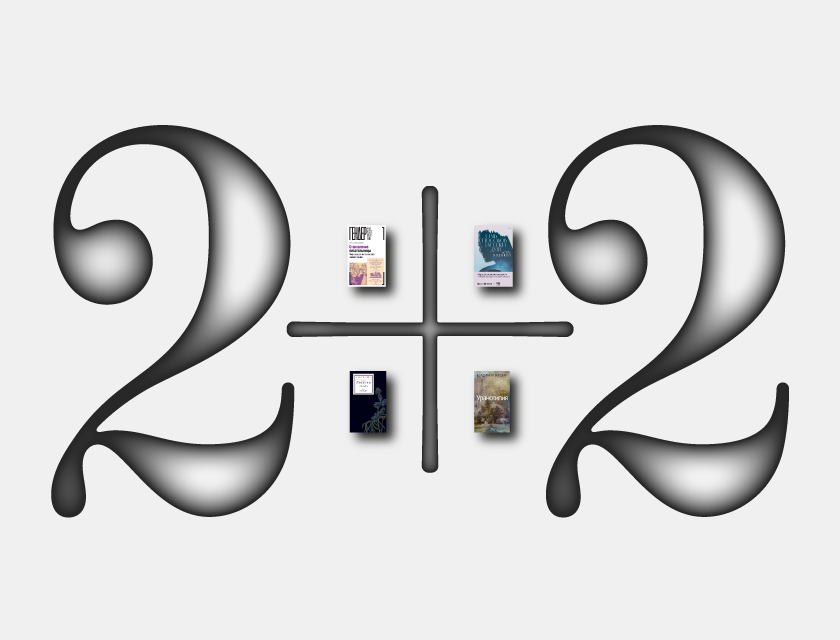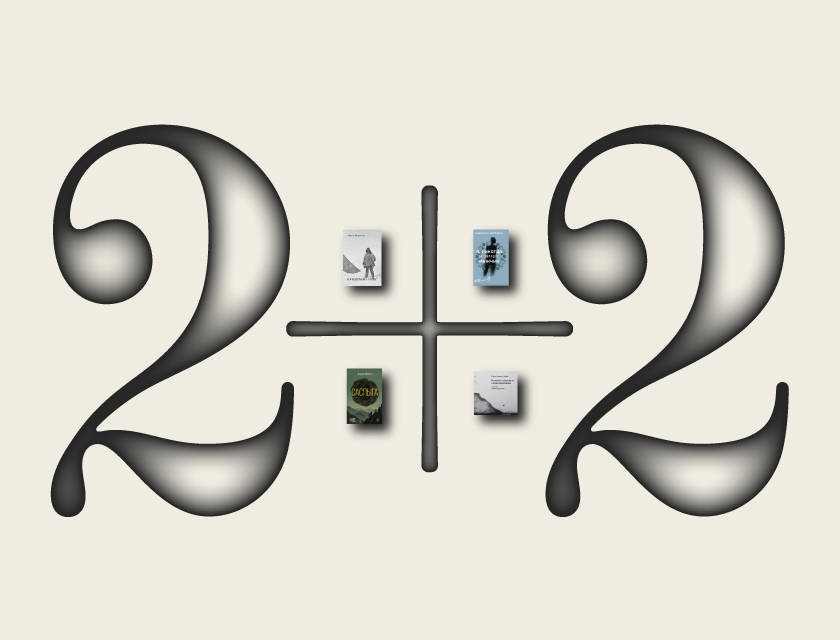В рубрике «2+2» редакторы «Полки» Лев Оборин и Алёна Фокеева рассказывают о новых книгах. В очередном выпуске — большое эссе Рёко Секигути, фантастический саспенс Эдуарда Веркина, биография самого скандального поэта Серебряного века и роман о маленьких детях в последние годы СССР.
Рёко Секигути. Зов запахов / пер. с фр. Ольги Панайотти. М.: Ad Marginem, 2025.
Новая книга франко-японской поэтессы и переводчицы Рёко Секигути получилась очень личной, почти интимной. С одной стороны, запах неотделим от телесности, с другой — нематериален и потому наделён сакральным значением. Запах открывает нам тайные стороны вещей, ассоциируется с неуловимой сущностью всех предметов. Метафорические запахи есть у наших чувств, абстрактных явлений и событий — всё то, что кажется нам значимым, неизбежно вызывает обонятельные ассоциации. Поэтому Секигути пишет о запахах предметов искусства, войны и смерти, изысканной еды, дома и любимых людей своих героинь.
Эти истории перемежаются цитатами из дневника рассказчицы, выдержками из книг и подслушанными фразами о природе аромата. Запах, как мы твёрдо выучили благодаря Прусту (кстати, одному из любимых авторов Секигути), неразрывно связан с памятью. Ароматы могут вернуть забытые воспоминания, а воспоминания — воскресить утраченные запахи. Запах был и остаётся одним из языков, на котором человечество пыталось говорить с богами: различным религиозным таинствам присущи специфические ароматы. Благодаря этим отрывкам Секигути вводит читателя в глобальный контекст — исторический, мифологический, культурный.
Наше восприятие запаха всегда предельно индивидуально, и Секигути не пытается сделать свои микроэссе универсальными. Не упражняется в цветистом описании ароматов молодой спаржи и крови, не углубляется в различия между запахами старых и новых книг. Она сосредоточена на ощущениях, эмоциональных откликах героинь на запахи — или их отсутствие. В каждой из её зарисовок действует безымянная «она» — кухарка или актриса, влюблённая или скорбящая, молодая или стареющая, наша современница или дама XIX века, и объединяет всех этих женщин глубокая связь с миром запахов, почти первобытная вера в то, что запах — самое тонкое и значимое средство познания мира и самих себя.
«Зов запахов» — книга жизнеутверждающая и призывающая к интроспекции. Это возможность неспешного, ни к чему не обязывающего медитативного чтения, без потребности следить за сюжетом, переживать за героев и вникать в нюансы авторской философии.
— А. Ф.
Эдуард Веркин. Сорока на виселице. М.: Эксмо; Inspiria, 2025.
Будущее, в котором комаров можно «включить» и «выключить», погоду — без труда настроить, утерянные конечности восстановить, а поверхность планеты изменить по своему желанию. Новые миры открывают быстрее, чем человечество успевает их заселить. Люди сыты, одеты, в большинстве своём заняты интересной интеллектуальной работой: изучают глубоководных рыб, пытаются придумать вечные носки, пишут диссертации — все насущные вопросы уже решены. И потому на первый план выходят вопросы конечные. К чему должно стремиться человечество? Где пролегает граница наших возможностей? Природа человека — добро или зло? Стоило ли людям отрываться от уютной и надёжной Земли?
Безопасный и обустроенный мир оставляет своим жителям много времени на разговоры и размышления. Наверное, поэтому книга Веркина состоит в основном из диалогов и вставных новелл. Герои «Сороки на виселице» сочиняют байки о призраках и опасностях космических путешествий, пересказывают сюжеты книг, делятся этическими теориями и футурологическими концепциями и постоянно спорят, усложняя и без того хитросплетённое полотно текста.
Собственно, ради споров и обсуждений герои Веркина и собираются на Регене — далёкой и таинственной планете, где находится экспериментальная база Института пространства. Именно там собирается Большое Жюри — орган власти, решения которого определяют направление развития человечества.
На Регене аномалии — норма. На Регене строят и ещё несколько сотен лет будут строить машину, способную подарить человечеству всю Вселенную. Реген — оплот синхронной физики, а синхронная физика — это что-то трудноопределимое, способное привести в систему все совпадения и открыть человечеству новые пути. Синхронные физики — признанные гении — больше всего похожи на мастеров игры в бисер из романа Гессе, только вот от них ждут практических результатов. И, кажется, судьбу этой своеобразной науки и должны будут решить члены Жюри.
Спасатель Ян неожиданно получает приглашение поучаствовать в заседаниях, но начало работы Жюри постоянно откладывается, и прибывшие первыми предоставлены сами себе — и друг другу. Проходит неизвестно сколько времени, растёт напряжение, кажется, что ответы на вечные вопросы необходимо получить прямо сейчас, а коридоры Института остаются пустынными. Довольно быстро внимательный читатель понимает, что «самое главное» так и не случится, «Сорока на виселице» — это роман ожидания.
Больше, чем о синхронной физике, герои Веркина говорят разве что о литературе — и не так уж сложно заметить, что две эти темы постоянно сливаются в одну. В конце концов становится понятно, что синхронная физика — та же литература, и вряд ли у неё можно чего бы то ни было требовать, тем более — указаний к действию.
«Задача литературы — запутать читателя, сообщить ему иллюзию причастности, обвести вокруг пальца».
«Синхронная физика — не ответ, она вопрос».
Этот роман можно прочитать как текст о природе текста. Неслучайно он назван в честь картины Брейгеля-старшего: самая выгодная позиция здесь у того, кто наблюдает за происходящим со стороны, не зацикливаясь на том, что не поддаётся интерпретации. Как та самая сорока на фантастической формы виселице.
Роман Веркина может завести в тупик читателя, привыкшего отчётливо понимать, что именно происходит в тексте, ожидая, что уж к последней-то главе всё точно встанет на свои места. Спойлер: не встанет. Впрочем, одиноко читателю не будет — главный герой Ян, к примеру, тоже далеко не всё понимает, но зато ему «интересно», а это всё-таки главное.
— А. Ф.
Роман Сенчин. Александр Тиняков. Человек и персонаж. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2025.
Если издательство «АСТ» хотело новой серией «Ж.И.Л.» («Жизнь известных людей») обозначить дистанцию с «ЖЗЛ», то лучшего персонажа, чем Александр Тиняков, трудно придумать. Скорее беспринципный циник, чем проклятый поэт; человек безусловно одарённый и заслуживший славу скандальными текстами; журналист, попавшийся на сотрудничестве одновременно с либеральными и черносотенными изданиями; в конце жизни — профессиональный нищий, запомнившийся всему литературному Ленинграду.
Биография — из тех, что отталкивают и притягивают одновременно. Зощенко назвал этого поэта Смердяковым, и дело не только в рифмующихся фамилиях. Сам Тиняков, подписывавшийся псевдонимом Одинокий, один из разделов своего первого сборника посвятил «тени Ф. П. Карамазова», а впоследствии, по предположению Сенчина, публиковал доносы на собственного отца, когда-то дававшего ему деньги на выпуск книги. Не лучшей благодарности дождались от него и другие благодетели, от Зинаиды Гиппиус до Блока. Антисемитские статьи он писал такие, что их могла бы публиковать не только «Земщина», но и «Фёлькишер беобахтер»; спустя несколько лет он в печати защищал евреев от юдофобии. Сенчин с иронией повторяет самоописание своего героя: «неустойчивый человек». Уместно привести и цитату из письма Ходасевича (который, впрочем, ничего такого не говорил Тинякову в глаза): «Кто же он? Да никто. Он нуль. Он принимает окраску окружающей среды. Эта способность (или порок) физиологическая».
Первая волна была в начале 1990-х, когда публикацией его наследия занимался такой крупный филолог, как Николай Богомолов. В конце 1990-х Глеб Морев изучил уголовное дело Тинякова и опубликовал два его неизвестных текста (а спустя двадцать напечатал о нём большую работу). В 2019-м вышла книга Вардвана Варжапетяна «Кое-что про Тинякова» — дайджест многолетних изысканий, начатых яркой статьёй 1992-го. Большая часть этих работ пересказана в тексте Сенчина. Мода, впрочем, оказалась не только академической. Например, пару лет назад издание «Отвратительные мужики» посвятило Тинякову материал под названием «"Я пал в навоз и обосрался": история самого мерзкого поэта Серебряного века». Там цитируются почти все главные хиты Тинякова — от знаменитых стихов про гробики («Вы околели, собаки несчастные, — / Я же дышу и хожу. / Крышки над вами забиты тяжёлые, — / Я же на небо гляжу!») до «Плевочка» («Любо мне, плевку-плевочку, / По канавке грязной мчаться»). Не хватает разве что найденного Моревым стихотворения «Чичерин растерян и Сталин печален…», которое, если учесть время его написания, вызывает большую оторопь, чем все предыдущие декадентские выверты:
Чичерин растерян и Сталин печален,
Осталась от партии кучка развалин.Стеклова убрали, Зиновьев похерен,
И Троцкий, мерзавец, молчит, лицемерен.И Крупская смотрит, нахохлившись, чортом,
И заняты все комсомолки абортом.И Ленин недвижно лежит в мавзолее,
И чувствует Рыков верёвку на шее.
Сенчин давно интересуется Тиняковым: во второй части книги он рассказывает об этом увлечении — вплоть до попыток ещё в школьном возрасте расследовать обстоятельства смерти поэта. Имя Тинякова то и дело мелькает в прозе Сенчина; как указывает Максим Артемьев, оно появляется уже в первых сенчинских рассказах: «Почему фигура Тинякова притягивает Сенчина — предположить не трудно. В его ранних рассказах много «тиняковского» — их герой, «альтер эго» автора, исповедует показной цинизм, голоден и нищ, бросает вызов миру и остаётся неуслышанным». Впрочем, Тиняков — маргинал не такого рода, как герои главного сенчинского романа «Ёлтышевы»: там описывалась среда, населённая миллионами, и стихов эти миллионы не пишут. В каком-то смысле возвращение к фигуре Тинякова — это возвращение к высокой культуре, пусть и к её оборотной стороне. «Высокая культура» здесь не для красного словца: герой книги ей усердно подражал, о чём свидетельствует, например, такое стихотворение 1916 года:
Всё равно мне: человек и камень,
Голый пень и свежий клейкий лист.
Вечно ровен в сердце вещий пламень
И мой Дух непобедимо чист.Всем терзаньям, всем усладам тело
Я без сожаленья отдаю,
Всем соблазнам я вручаю смело
Душу преходящую мою.
Впрочем, за два года до этого Тиняков пишет такую «Искреннюю песенку»:
Я до конца презираю
Истину, совесть и честь,
Только всего и желаю —
Бражничать блудно да есть.Только бы льнули девчонки,
К чёрту пославшие стыд,
Только б водились деньжонки
Да не слабел аппетит.
Эти стихи гораздо лучше, чем начётнический символизм и акмеизм. Возникает соблазн — которому Сенчин иногда поддаётся — предположить, что это лирика персонажная, исповедь выдуманного негодяя. «Автор… чуть ли не в каждом стихотворении меняет маски, — констатирует Сенчин. — То он египетский раб, то проститутка, то шудра, то прокажённый, то Христос… Мастеровитость имеется, а искренностью и не пахнет». Но тут как раз подводит биография. Сменой масок увлекались многие — в том числе главный учитель Тинякова Брюсов, но о сравнении ни жизней, ни масштабов дарования говорить не приходится. Над скандалами, которых в жизни Брюсова было полно, можно иронизировать — а можно и относиться к ним с уважением. Скандалы в биографии Тинякова вызывают тягостное недоумение.
Зачем же, собственно, Сенчину понадобился «пустой, ненаполнимый» Тиняков — если отложить в сторону гипотезу о его сходстве с героями сенчинской прозы? Возможно, сказывается уважение к упорству, с которым Тиняков присутствовал в культуре. Не только как автор «гробиков», но и как человек, в свободное от оппортунизма и сведения счётов время искренне пытавшийся понимать литературу — от Тютчева и Достоевского до современников. Как знакомец авторов первого ряда — этакий Калибан, отворачивающий зеркало от себя и подносящий его, например, Блоку (который на самые дикие антисемитские статьи Тинякова отзывался с одобрением), Ремизову (чей лукавый характер книга Сенчина хорошо подчёркивает) или Георгию Иванову, в чьих поздних поэтических шедеврах слышен и отзвук тиняковского цинизма. Как, в конце концов, литературный персонаж, узнаваемый и у Зощенко, и у Вагинова, и у Хармса.
И в этом смысле книга Сенчина — добрая. Литературные мерзавцы современности могут ею утешаться. За яркость, за искру таланта, пусть и самолично затоптанную, в конце концов за бесстыдную откровенность — многое простится. И книги будут продаваться на аукционах, и литературоведы будут составлять переиздания, и биографии опубликуют, и вспомнят, что у авторов более достойных тоже были грешки, компромиссы, голодные унижения: «Зощенко не повесил на грудь картонку с надписью, подобную той, что повесил Тиняков (замечу, что надпись "Подайте бывшему поэту" Зощенко выдумал, в реальности она была другой — "Подайте на хлеб поэту, впавшему в нужду"). Он предпочёл каяться, "перековываться"». Только вот из этого не следует, что Тиняков был честнее Зощенко — и едва ли можно, как это делает Сенчин, сравнивать отчаянный крик Зощенко на писательском собрании 1954 года («Я не стану ни о чём просить») с поведением Тинякова («такой же бунт совершил и герой этой книги»).
К чести Сенчина, он не произносит сентенции «не всё так однозначно». С одной стороны, если человек сознательно возводит «неоднозначность» в жизненный принцип, то и произносить её не над чем. С другой — апологетика Тинякова (скажем, в цитируемой Сенчиным статье Никиты Елисеева, который как будто превращает циника в киника), приписывание ему какого-то высшего юродства — тоже сомнительное занятие. В отличие, скажем, от Есенина и Клюева, у выходца из крестьян Тинякова не было тайного идеологического умысла, когда он примыкал то к одним, то к другим политическим и эстетическим силам. Он поступал так, судя по всему, из желания славы, из сиюминутного расчёта — но каждый такой случай не поднялся выше анекдота, сколько бы ни стараться делать из него трагедию. В конечном счёте перед нами остаётся интересная биография человека, дошедшего до крайностей. Книга Сенчина не предупреждает и не оправдывает — скорее показывает, что любая лакуна в культуре рано или поздно бывает закрыта.
— Л. О.
Мария Данилова. Двадцать шестой. М.: АСТ; Астрель-СПб, 2025.
Первой книгой Марии Даниловой стал роман для детей «Аня здесь и там» — история девочки, переехавшей с родителями в Америку. Нынешняя волна русской эмиграции началась через несколько месяцев после выхода книги, и она, насколько мне известно, попала во многие чемоданы и многим помогла — и родителям, и детям. Роман «Двадцать шестой» — тоже о детстве и тоже о среде, хорошо знакомой писательнице. Юго-запад Москвы (один из «интеллигентных» районов; именно здесь проходит маршрут заглавного 26-го трамвая) и конец 1980-х — терминальный застой, бурная перестройка, распад СССР. Черненко умирает в первой строке, демоны советских заведений — злобные учительницы и бесчеловечные медсёстры — продержатся подольше.
Дети, герои романа, — обыкновенные и необыкновенные одновременно, и разброс типажей — насколько это слово применимо к персонажам-детям — достаточен, чтобы читатель нашёл родственную душу. Мальчик-читатель, нервная влюбчивая девочка; ещё одна девочка — из еврейской семьи, пытающейся эмигрировать; её нескладная подружка из коммуналки; мальчик — сын номенклатурных родителей, неожиданно оказывающийся одним из самых симпатичных героев… Впрочем, ещё узнаваемей работает набор деталей и упомянутых событий, каждая из них — маленькая машина времени. Очередь на машину, слова «выбросили» и «достали», отдых в Латвии, землетрясение в Армении. По телевизору Сахаров, Кашпировский, аэробика, «Поле чудес», а в финале — «Лебединое озеро». Училка бьёт указкой по пальцам. Мальчика мучат музыкальной школой, девочку — стилетиком-пёрышком для анализа крови. Детские болезни, в детсад затемно на санках. Фактурный, беспроигрышный набор для сегодняшнего поколения сорока-с-чем-то-летних, необязательно московских, необязательно уехавших или оставшихся.
Ценность этого набора — в воскрешении чувства коллективного прошлого, во многом внеположного государству («Эта книга родилась из воспоминаний о детстве, но не только о моём», — пишет Данилова в послесловии); за согласным кивком может, а то и должна следовать горечь. В том мире очень бедные завидовали просто бедным, все были так или иначе поломаны — даже садистическая училка с указкой. Это был не очень хороший мир — но до поры до времени нельзя было даже представить себе никакого другого, пусть всем и было очевидно, что этот трещит по швам. «Что было, то и полюбила», как будет спустя несколько лет после «Лебединого озера» петь Алёна Апина, перефразируя максиму «Бытие определяет сознание».
Рассчитанный на узнавание, это роман для взрослых. Впрочем, он не противопоказан и подросткам — в качестве параллели вспомню повесть Анны Красильщик «Три четверти», тоже вещь о трудном взрослении в новой исторической реальности.
— Л. О.