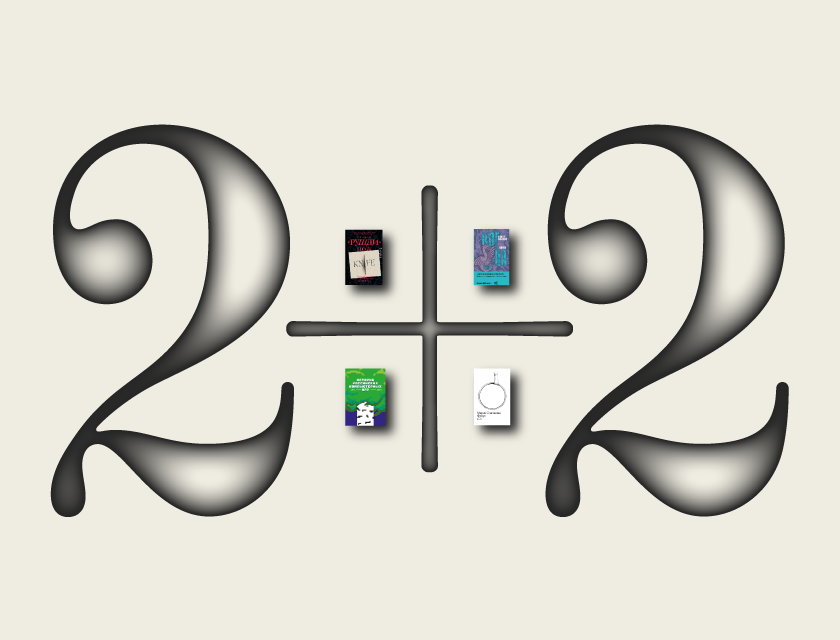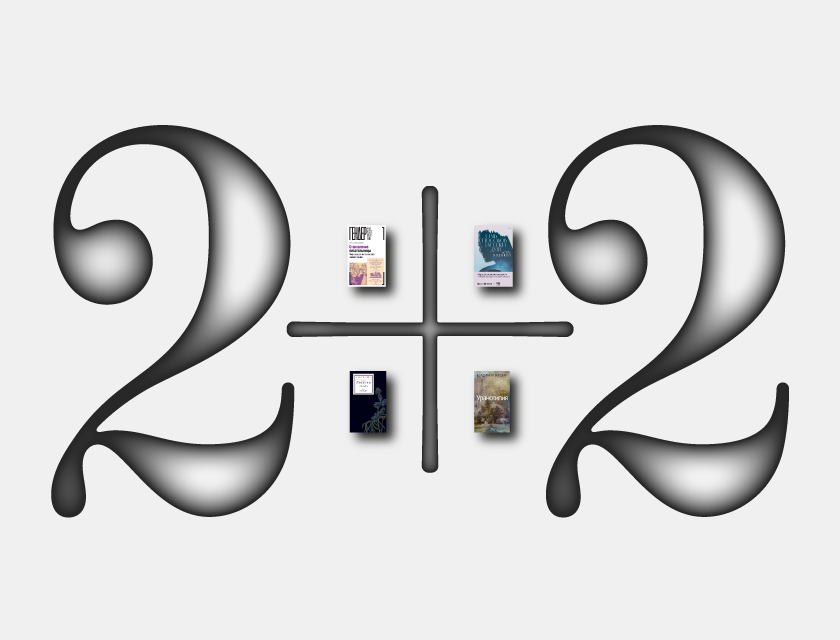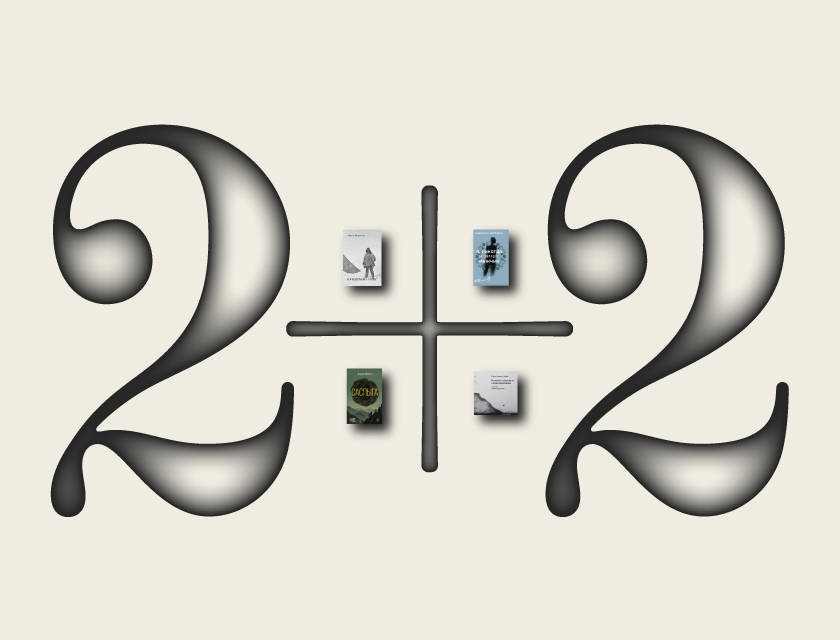2+2: домик няни, кабиасы, Эйзенштейн и СПИД
В рубрике «2+2» редакторы «Полки» Лев Оборин и Алёна Фокеева рассказывают о новых книгах. В очередном выпуске — гнездо, которое построил Александр Ильянен, собрание смелых филологических работ Виктора Щебня (также известного как Илья Виницкий), роман Гузель Яхиной об Эйзенштейне и исследование об эпидемии СПИДа в СССР.
Александр Ильянен. Домик няни. Пг.: Freedom Letters, 2025.
Новая книга Александра Ильянена по методу не отличается от предыдущей, «Пенсии»: на протяжении многих лет писатель ведёт микроблог в ВК — и из записей, иногда совершенно бытовых, иногда ярко дневниковых, а иногда сплавляющих одно и другое, создаётся конструкция книги. В таком массиве можно вылавливать многочисленные сюжеты — и довольно часто писатель сам подсказывает, как это сделать, объявляя тот или иной этап своей жизни очередным «романом» (например, в 2020-м разворачивается действие романа «Карантин»). Больше всего метод Ильянена удивляет лёгкостью — притом что та же «Пенсия» была циклопических размеров. Тут действительно проблема — где при таком подходе остановиться; «Домику няни» для этого понадобился редактор (прозаик Станислав Снытко).
«Домик няни» — что-то на петербургском; пейзажи Ильянена — это действительно районы и окраины Петербурга, Уткина заводь, виды из окна поезда («вчера видел мать-и-мачеху. из окна электрички», «вновь я посетил пляж в Дюнах»). Но няня здесь — не Родионовна, а радионяня: так Ильянен величает любимую радиостанцию France Culture. Её передачи время от времени находят место в тексте — подчёркивая его европейский лоск. «послушал о Шарле Пеги Peguy, Жане Бодрийяре (система вещей), дождался дождя» — созвучия работают почти незаметно, но работают. Впрочем, даже эта радиостанция, в соответствии с постструктуралистской философией, условность: её рутину и эксцессы можно встроить в собственный ритм жизни. «Радио бастует второй день, вместо передач звучит замечательная музыка, правда, передачи можно послушать в подкасте. Я послушал часть Мадам Бовари, и, из солидарности с бастующими, занялся домашними делами», — пишет Ильянен где-то в середине книги. А мы, до середины дочитавшие, прекрасно представляем себе, какие это могут быть домашние дела. Одна из параллелей ильяненовской прозы с французским XX веком — именно в принципиальном неразличении «важного» и «неважного»: как в «новом романе» Роб-Грийе или Саррот, одинаково важно и неважно примерно всё. Неоднократно упоминаемый в «Домике няни» Пруст взрывается ворохом деталей и подробностей — и пересобирается в случайном порядке. Как будто Пруст — это такая коробка со всякой всячиной, которую можно выронить на прогулке.
«Как Гауди-Манилов возводил свои соборы, так я мучительно и медленно строю проект книги, чертёж одной-единственной» — такие слова Александра Ильянена приводит в предисловии к «Домику няни» Дмитрий Волчек. Мучительности в тексте читатель не увидит и следа — но не увидит и Гауди: то, что на протяжении многих лет делает Ильянен, со стороны действительно похоже на архитектуру, но бессознательную. Так птица вьёт гнездо из прутиков и травинок — и получается то, что нужно. Для текста Ильянена, подчеркивающего, что праздность — условие счастья, хорошо работает первая часть пушкинского четверостишия — «Птичка божия не знает / Ни заботы, ни труда», а вот со второй частью — «Хлопотливо не свивает / Долговечного гнезда» — уже есть проблемы: во-первых, хлопоты нам не видны, во-вторых, ильяненовское гнездо — живое, постоянно изменяющееся; оно не столько дом, в котором селится писатель, сколько сама жизнь — и его, и окружающих, которые становятся таким же строительным материалом. Мы можем не знать многочисленных друзей Ильянена — но он расскажет нам, как они выглядят и во что одеты, и мы их немедленно вообразим. Покупка и установка стиральной машины превращается в мини-эпопею: «то, о чём только могли мечтать большевики, сбылось: я купил стиральную машину. Осталось: подключить и воспеть её». Переписка со знакомой превращается в безутайное описание и обоснование метода, в котором мандельштамовское «Цитата — это цикада» дивно видоизменяется:
М. моя новая знакомая и коллега, она тоже учитель языка, заметила в переписке, что я люблю цитаты, немного странно, не правда ли, судить по первому письму, где я процитировал кого-то по памяти. С др. стороны, это правда, ведь я человек постмодерна. Цитаты это наши цукаты, то что любят дети в детстве. Дети в детстве. Ещё я люблю плеоназмы, паронимы. Напрмр, старость страсть. Почти те же буквы. Но скорость другая.
Так можно и всю рецензию превратить в список цитат — тем более что Ильянен охотно вставляет цитаты в свой текст ради иронического эффекта (а не беспощадного социального сарказма, который обещает аннотация): «проснулся от шума сигнализации. Какой-то добрый человек из Сычуани оставляет под окнами машину». Фрагменты гнезда — веточки, тряпицы, цитаты, обрывки радиопередач, новости о коронавирусе и прочее — можно при желании категоризировать: расцепить сюрреализм их переплетения. Но для соответствия духу «Домика няни» стоит ещё раз подчеркнуть, насколько перед нами вольная конструкция. Весь текст книги — как будто результат нарезки и склейки второго уровня: первый обеспечил сам Ильянен, второй — волевое редакторское решение оборвать текст. Можно ли было это сделать не на 300-й странице, а на 200-й? Да: письмо-гнездо фрактально, подобно самому себе после любого отсечения. С другой стороны, ещё 100, 50, 10 страниц этой игры, самоупоённой и радостной — что в наше время редкость, не так ли? — ощущаются как подарок. К нему можно возвращаться, по нему можно гадать. Не обязательно читать всё подряд. Вообще этот текст никого не неволит — но знание о нём вызывает улыбку.
— Л. О.
Илья Виницкий. О чём поют кабиасы. Записки свободного комментатора. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025.
Илья Виницкий — один из самых остроумных и внимательных к деталям филологов-русистов: из маленькой цитаты, из чуть-чуть торчащей из классического текста несуразности он способен сделать полноценное исследование — а точнее, расследование. Оно может изменить наше восприятие произведения — даже если это какая-нибудь неприкосновенная громада из школьной программы. У Виницкого есть альтер эго — Виктор Щебень, «специально вымышленное доверенное учёное лицо, которому я, человек сдержанный и академический, доверяю некоторые свои научные гипотезы и фантазии, которые под своим именем никак не решился бы напечатать». Работы Щебня и составили эту книгу.
Понятно, что это игра в открытую, даже не мистификация. «Будучи по природе своей, так сказать, псевдонимом или, используя термин Ю. Н. Тынянова, пародической личностью…» — так Щебень начинает одну из своих статей, посвящённую как раз комическим фамилиям. В другой статье он ссылается на своего коллегу Виницкого… В общем, всё это позволяет вспомнить, что литературоведение может быть весёлой наукой, смыкаться даже не с эссеистикой, а с художественным текстом. Ведь моделью для Виницкого-Щебня зачастую служит детективный рассказ, и даже возражения коллег (подлинные или вымышленные) здесь выглядят как споры Уотсона с Холмсом.
Несмотря на мрачные ассоциации, возникающие в некоторых работах, мы имеем дело с практической похвалой филологии, этаким гаудеамусом. Пожалуй, лучшая иллюстрация тут — заглавная работа про кабиасов, демонологических существ из рассказа Юрия Казакова, у которых обнаруживается генеалогия под стать сиятельной знати. Жанр филологического детектива близок к комментаторскому искусству: будоражащая воображение реалия или цитата — это улика. Так устроены недавние работы Александра Долинина о мемах прошлого; то же можно сказать о книге Виницкого. Он умеет находить в хрестоматийных произведениях ту ниточку, за которую ещё никто не тянул. (Если ниточка вам не нравится, то сам Виницкий предлагает иголочку: «Самое приятное в работе комментатора с амбицией не просто найти иголку в стоге сена, но и, так сказать, водрузить на её острие если не дворец, то хотя бы башню или какую-то шахматную фигуру».) Книга открывается статьёй о княжне Мери из «Героя нашего времени», которая, по характеристике слегка циничного доктора Вернера, «читала Байрона по-английски и знает алгебру»; из этого вырастает целый сюжет об отношении к женской учёности — не только в романе Лермонтова, не очень-то жаловавшего женщин, но и в европейском обществе 1820–40-х; попутно мы узнаём кое-что о математических занятиях самого Лермонтова. То же умение потянуть за ниточку применимо к биографиям: например, разбирая вопрос о достоверности первых, написанных в детстве стихов Маяковского, Виктор Щебень воссоздаёт возможный эпизод в заочном соревновании с Блоком, чьи младенческие стихи были заботливо сохранены его тёткой. (Как раз эта идея — явно из смелых фантазий, недостаточно фундированных, чтобы обойтись без игрового авторства Щебня.) В-третьих, даже если речь идёт о чём-то совсем не хрестоматийном, это знание может серьёзно скорректировать читательские представления об эпохе, а то и вообще о характере русской культуры, всегда более или менее неполные. Скажем, по мнению Щебня, известная сталинская надпись поперёк горьковской поэмы «Девушка и смерть» («Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте») сообщает нам что-то важное о вечном соседстве в русской культуре эроса и танатоса — соседстве, которое в поэме Горького декларируется прямо и которое большевики стремились показать на практике. Это, может быть, скорее из области культурологических шуток Пелевина и Сорокина, чем из области филологии. Однако «сказка ложь, да в ней намёк».
Собственно, тут открывается ещё одна важная вещь: канонические книги, что бы ни думали на этот счёт школьные методисты, потому и канонические, что постоянно дают повод обращаться к современности. Целый раздел книги посвящён заметкам о дилогии Ильфа и Петрова: не отрицая огромного значения комментариев Юрия Щеглова, восстанавливающих исторический контекст «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка», Виницкий-Щебень видит в этих романах «хронику дуреющей и остывающей человечности», созвучной нынешнему времени и нынешней России. Некоторые опыты в сближении далековатых времён Щебень доводит до пародийности: например, прокладывая линию между героиней эротических стихов Северянина Инстассой и певицей Инстасамкой. Однако в этой пародийности — не только знак интереса к современной поп-культуре и меметике, но и попытка увидеть единство поп-культуры и китча вообще. Такой интерес свойственен не одному Виницкому: можно вспомнить работы о поп-поэзии Александра Жолковского, чьи виньетки — образцы филологической увлекательности.
Менделеев учил, что широко простирает химия руки свои в дела человеческие. «Длинные руки», как напоминает Виницкий в одной главе, — так себе мем. Но почему бы филологу не иметь «широких рук» — чтобы при перечитывании классики наступало время разбрасывать и собирать щебень?
— Л. О.
Гузель Яхина. Эйзен. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2025.
Новый роман Гузель Яхиной, как нетрудно догадаться, рассказывает о жизни Сергея Эйзенштейна — с младенчества и до смерти. Автору «Броненосца «Потёмкин», «Октября», «Александра Невского», «Ивана Грозного», эксцентричному, жестокому и неоднозначному, посвящён целый ряд книг — и фильмов. Он и сам оставил богатое текстовое наследие — статьи, дневники, воспоминания. Свой же текст Яхина называет «романом-буфф», и буффонады здесь действительно много.
Вот Эйзенштейн заставляет свою команду бегать по топям в поисках самой отвратительной жабы. Вот сыплет сальностями и каламбурами в угоду репортёрам. Вот издевается над начальством, заявляя, что собирается экранизировать произведение забытого русского классика Баркова. Гузель Яхина не скупится на байки и анекдоты — её герой остёр на язык и безмерно обаятелен. Однако комичное и гротескное переплетается здесь с трагичным так тесно, что одно от другого отличить довольно сложно. И вот уже Эйзенштейн слепнет от нервного напряжения и впадает в тяжелейшую депрессию. Вот теряет своих любимых, так и не дошедших до зрителя детей — сначала снятую в Мексике картину, потом «Бежин луг». Вот одно за другим игнорирует отчаянные письма умирающей от рака влюблённой в него женщины.
Литрами льётся бутафорская кровь, сделанная из вишнёвого варенья, и пока Эйзенштейн снимает побоища — более или менее достоверные, а то и вовсе вымышленные — и живёт только своими фильмами, настоящая жизнь продолжается и льётся кровь настоящая. И Февральская, и Октябрьская революции, и репрессии, и Вторая мировая остаются лишь фоном для событий творческой биографии и размышлений о природе искусства — почти наравне с Великой французской революцией, изученной Эйзенштейном по гравюрам с гильотинами. Режиссёр изобретает способы максимально эффектного убиения младенцев на камеру и удовлетворённо потирает руки, напугав зрительный зал.
Но стоит только фокусу внимания рассказчика переместиться с Эйзенштейна на кого-нибудь из его коллег, друзей или недругов, как страшные события XX века перестают быть только непреодолимым препятствием на пути гения к творческой свободе. Эти короткие отступления действуют на читателя примерно так же, как ведро холодной воды. Мейерхольд и Бабель — учитель режиссёра и его близкий друг — оба расстреляны, сожжены, и пепел их сброшен в одну яму вместе с останками других несчастных. Кинооператор Тиссэ, насмотревшийся ужасов, хочет снимать только красоту и свет. Гришка — знаменитый мастер массовой комедии Григорий Александров — кормит умирающих от голода детей досыта, но только в своих мечтах.
Приёмы, использованные в тексте, вторят излюбленным приёмам самого Эйзенштейна: массовые картины сменяются крупными планами, карикатуры — иконописными ликами, аттракционы — теоретическими выкладками. О чём же эта книга? Пожалуй, в первую очередь о том, что гениальность, как и любая форма власти, по природе своей чужда человечности. Но, несмотря на это, ключом к искусству, который отчаянно пытается подобрать Эйзенштейн, оказывается всё же сочувствие — к мученикам и мучителям, к правым и заблуждающимся.
Начав с начала, автор как будто стремится поскорее дойти до конца — избавляясь от лишних деталей, сюжетов, пейзажной лирики во имя стройности конструкции. «Эйзен» балансирует на грани между фикшном и нон-фикшном и читается не как роман, а скорее как очень эмоциональная биография — почти голливудский байопик. Причём биография достаточно достоверная, скрупулёзно восстановленная по многочисленным воспоминаниям и статьям. Яхина и сама об этом пишет — в обращении к читателям, завершающем книгу.
— А. Ф.
Ирина Ролдугина, Катерина Суверина. Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР. М.: Individuum, 2024.
Небольшая книга историка Ирины Ролдугиной и культуролога Катерины Сувериной посвящена не столько конкретной медицинской истории, сколько порождённым эпидемией СПИДа многочисленным общественным дискуссиям, изменившим позднесоветское общество. В 1983 году, когда о вирусе иммунодефицита человека (сначала его называли ПИДС — приобретённый иммунодефицитный синдром) впервые публично заговорили в СССР, советские власти поспешили засекретить сведения и не делиться информацией ни с врачами, ни тем более с обычными людьми. Среди отобранного авторами иллюстративного материала — служебные записки, не так давно рассекреченные документы КГБ, интервью врачей и чиновников, газетные статьи, письма читателей и карикатуры. Судя по ним, в первую очередь медицинские чиновники и советские спецслужбы стремились успокоить население и снять с себя ответственность за всё ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, переложив её на выдуманных врагов — халатных медсотрудников, так называемые группы риска и «американских СПИДциалистов».
Но инсинуации о том, что вирус порождён в лабораториях американских спецслужб, потерявших контроль над его распространением, — не единственная ложь, волновавшая умы советских граждан. ВИЧ на протяжении долгих лет был окружён многочисленными слухами, нелепыми домыслами и конспирологическими теориями. Вопросов становилось всё больше. Передаётся ли вирус воздушно-капельным путём? (Нет.) А бытовым? (Нет.) Можно ли заразиться через лекарственные средства, получаемые из препаратов донорской крови? (Нет.) «Сексуальная зима» — то есть подчёркнуто консервативное отношение общества к сексу — самая эффективная защита от ВИЧ? (Нет.)
В потоке противоречивых заявлений чиновников особенно громко звучал тезис о том, что в Советском Союзе отсутствуют условия для распространения вируса иммунодефицита. Заявление по сути своей настолько же нелепое, как знаменитая перевранная фраза «В СССР секса нет». Но игнорирование проблемы не спасало от неё, а только ухудшало положение множества советских граждан, выставляя их страдания не стоящими внимания или даже заслуженными. История первого десятилетия борьбы с ВИЧ — это история борьбы ханжества и гуманизма, благодаря которой в поле общественного внимания попало множество острых вопросов.
Половое воспитание и безопасный секс, конфиденциальность медицинских сведений и стигматизация неудобных властям слоёв населения, необходимость отмены статьи «за мужеложство», в конце концов, потребность в одноразовых медицинских расходниках и их острый дефицит — эти темы вновь и вновь всплывали в общественных дискуссиях. Одни всерьёз полагали, что носителей вируса следует изолировать от общества (или, по крайней мере, вытеснить из нормальной жизни — отказав в праве работать, водить детей в школу и даже лечиться). Стигма была так сильна, что раскрытия информации о себе боялись не только ВИЧ-положительные, но и медики, работавшие в специализированных учреждениях. Другие же считали, что борьба с общей угрозой сможет наконец сделать нас всех гуманнее, научив не делить людей на первый и второй сорт. Для учёных исследования вируса были передним краем науки. А вот средний медицинский персонал оказался в ловушке: соблюдать санитарную инструкцию было необходимо, но невозможно — для этого требовались одноразовые шприцы и стерилизаторы, которых было не достать.
Проблема ВИЧ обсуждалась повсеместно — не только как медицинская и социальная, но не в последнюю очередь как мировоззренческая и политическая. Ролдугина и Суверина вспоминают, к примеру, поездку Ельцина (ещё не президента) в США, из которой он привёз партию одноразовых шприцев, и, конечно, благотворительный фонд «Огонёк — антиСПИД». Авторы последовательно, пусть иногда и повторяясь, рассказывают, как ВИЧ стал одной из причин разочарования многих граждан в советской системе здравоохранения, повлиял на внешнеполитическую ситуацию и формирование зачатков гражданского общества в позднем Советском Союзе. В то время вирус обсуждали повсеместно — сегодня шум поутих, но поднятые несколько десятилетий назад темы до сих пор не только актуальны, но и крайне болезненны.
— А. Ф.