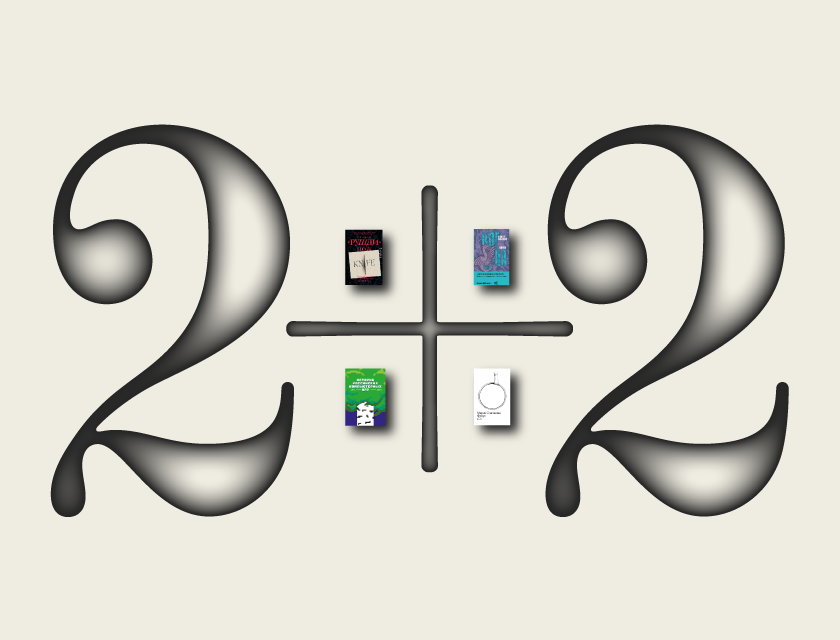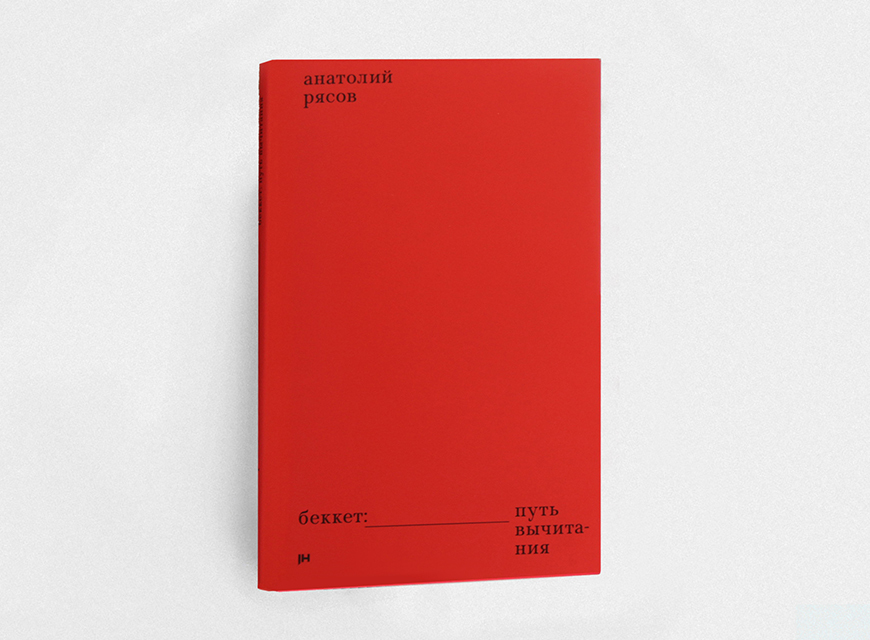2+2: уранотипия, Геката, викторианки и засолка душ
В рубрике «2+2» редакторы «Полки» Лев Оборин и Алёна Фокеева рассказывают о новых книгах. В очередном выпуске — постмодернистский роман Владимира Березина о секретной русской миссии в Иерусалиме, книга стихов Анны Глазовой, посвящённая богине порогов и развилок, мистический триллер Веры Богдановой и исследование Линды Петерсон о писательницах-викторианках . Хорошего вам чтения!
Владимир Березин. Уранотипия. СПб.: Азбука-Аттикус, 2025.
«Уранотипия» — роман, в котором сплетаются несколько историй. Они происходят в разные времена: тут есть и Смута, и Петровская эпоха, но основной сюжет — приключения русской миссии в Иерусалиме первой половины XIX века. На первый взгляд кажется, что перед нами эпизод противостояния великих империй — замаскированный под научную экспедицию ход в «Большой игре», в которую как раз в это время вступали Россия и Британия. Русские герои с анималистически-евангельскими фамилиями Львов, Орлов и Быков прибывают в Иерусалим под видом группы топографов, но разведка, порученная Львову и Орлову, — совсем не топографическая. Легенда для неё — съёмка Иерусалима при помощи уранотипии: действительно, существовала такая ранняя фототехнология с применением нитрата уранила, вещества не только радиоактивного, но и весьма ядовитого. Технические подробности у Березина достаточно фантастичны — но, конечно, читатель уловит здесь тревожную перекличку со следующим веком, в котором уран получит куда более зловещее применение. Третий русский путешественник — художник и создатель аппарата для уранотипии Максим Быков, которого Львов с Орловым используют втёмную. Истинная же цель экспедиции останется загадкой до самых последних страниц.
Если взять такое описание сюжета и по нему попытаться определить жанр, получится что-то вроде «шпионский исторический триллер с элементами магического реализма». Впрочем, к каждому слову здесь придётся приставить «но»: есть ещё одна, ключевая вещь, отделяющая «Уранотипию» от просто исторической беллетристики. Художественных произведений о «Большой игре» много с обеих сторон. Так, о посланнике России в Кабуле, востоковеде, авантюристе, поляке по происхождению Яне Виткевиче, который вполне мог бы быть прототипом одного из героев Березина, писали короли советского остросюжетно-исторического романа Юлиан Семёнов и Валентин Пикуль. Но для Березина важна в первую очередь литературная игра, поэтому у того же березинского персонажа по фамилии Витковский прототип другой — тоже поляк, востоковед и авантюрист, знаменитый литератор Осип Сенковский. Скажем, весь эффектно описанный эпизод несчастной любовной истории Витковского с цыганской невольницей, которую он выкупил из рабства, — ремейк повести Сенковского «Турецкая цыганка». Сенковский действительно собирался вывезти в Петербург Дендерский зодиак — астрономический древнеегипетский барельеф, доставшийся в итоге французам и играющий в образном ряду «Уранотипии» не последнюю роль. Французы в романе тоже действуют, упомянута и причина неудачи Сенковского с барельефом — война за независимость Греции. Все, все империи сходятся на этих трёхстах страницах, главной же остаётся та, в которой время идёт вспять, а птицы вязнут в густом колокольном звоне, — вы её, конечно, знаете.
Перед нами, таким образом, явственные приметы романа постмодернистского, и Березин предъявляет своему читателю довольно высокие требования. Добросовестное перечисление прототипов в конце книги не сильно эти требования облегчает. В романе постоянны аллюзии, интертекстуальные подмигивания: не только Пушкину, который здесь промелькивает как эпизодический персонаж; не только — в более анахроническом ключе — Льву Толстому и Бродскому, но и, например, Кольриджу, Платонову, Водолазкину. Есть даже, кажется, отсылка к одной из частей сказок Александра Волкова про Волшебную страну — что вполне уместно для писателя, который ранее таким образом экспериментировал и с «Декамероном», и с «Карлсоном». Словом, роман пронизан литературой, она здесь важнее сюжета. В какой-то момент ловишь себя на том, что проверяешь, действительно ли существует вынесенная в эпиграф цитата из какого-нибудь исторического сочинения, или это изящная мистификация. Березин, автор биографии Шкловского, упивается приёмом; Березин, фантаст, охотно вводит в текст элементы чудесного; Березин, прозаик-постмодернист, уверенно работает в своей стихии. Аннотация к роману вполне справедливо указывает параллели — прозу Умберто Эко и Владимира Шарова; при чтении «Уранотипии» в самом деле вспоминаются «Баудолино» и «Возвращение в Египет».
Нельзя сказать, что это однозначный плюс, — но это накладывает отпечаток не только на сюжет и композицию, но и на стиль. Подобно герою «Пражского кладбища» Эко, повествователь у Березина сообразуется с менталитетом описываемой эпохи, пусть иногда и высказывает что-то более современное или, может быть, вневременное: «Империям не нужно любви, всегда нужно чужое небо...» И даже если появляется повод упрекнуть повествователя в несколько ленивом обращении со стереотипами («Витковский был из Восточных Кресов, где народы мешаются, как капуста с колбасой в бигосе»), это тоже можно списать на стилизацию прозы XIX века, которая к национальным стереотипам питала ироническую любовь. Следующий, современный пласт иронии относится уже, соответственно, к этой любви.
Если же в какой-то момент круговорот сюжетных линий, литературных отсылок, интеллектуальных встреч и эзотерических подробностей начинает утомлять, этому отвечает чувство знойной маеты, временами наплывающее на героев — которых никто не звал в эти пропитанные мифологией места. В принципе, сюжет «Уранотипии» можно было бы уместить в небольшой рассказ — наподобие «Девяти миллиардов имён Бога» Артура Кларка. Но бесконечные детали, вставные новеллы, завитки аллюзий — всё это можно воспринимать как препятствия в сложном восхождении на гору, и ассоциации с масштабными фантазиями Эко здесь вполне уместны.
— Л. О.
Анна Глазова. Геката. М.: Новое литературное обозрение, 2024.
В своей последней большой работе «Культура и взрыв» Юрий Лотман пишет о переходе от бинарных систем и структур к тернарным, от жёстких оппозиций к более сложным троичным конструкциям, которые учитывают, уравновешивают противоположные позиции и предлагают им альтернативу. Лотман старается рассуждать об этом с беспристрастностью учёного, но исторический момент, в который он работал, — время распада СССР — сообщает ему энтузиазм. Идея, что есть не только чёрное и белое, плохое и хорошее, капиталистическое и коммунистическое, даже живое и мёртвое, действительно завораживает. Отойти в сторону и понять: «есть не два, а три» — жест и освобождающий, и усложняющий мышление.
«Геката» Анны Глазовой, книга, названная в честь таинственной и тройственной античной богини, — это именно заворожённость тернарностью, посвящение тройке. Троичность здесь навязчива, как заклинание: «трилогии / о трёх началах, трёх концах / и триптихи — / о трёх лицах», «божественная стройность / превращается в строенность». Столь же настойчиво из стихотворения в стихотворения повторяется слово «порог», и разрывы строф этот порог символизируют. Глазова настраивает читательское восприятие так, что, уловив словесную игру в слове «тривиальность» (от «Тривия» — то есть трёхпутье; именно такое имя Геката носила в Риме), начинаешь чувствовать заветное число уже и в словах «трепет» и «трезвость». Что-то подобное происходило с пушкинским Германном, и книга «Геката» в принципе открыта к подобным сопоставлениям: ведь имя богини, олицетворявшей фазы женской жизни (девочка, женщина, старуха), благословлявшей пороги и развилки, для Глазовой — знак перехода, перевода, переноса.
предпостижение
всегда остаётся девойматеринство
уже получило доступ
к послеопыту становления
старческое забвениеслепота с глухотой
возвращают к исходной
равнозначности всех сторон
на безлюдных развилках
В метафоре или в переводе есть три компонента: помимо одной и другой части сравнения или текста на одном и другом языке, есть ещё тот, кто, собственно, осуществляет действие, или тот, кто вовлечённо за этим наблюдает: «обрезание пуповины / кесарево сечение / мать и дитя — трое: / она и оно и точный не дрогнувший нож — // шаг для ребёнка, / шов для матери, / трепет отца». Геката среди прочего способствовала и благополучным родам, но в самом общем виде для Глазовой Геката — покровительница выбора и субъектности. Может быть, и покровительница наблюдателя, которому предстоит сделать выбор, по какой дороге пойти, — как в знаменитом стихотворении Роберта Фроста.
Поэзия Анны Глазовой всегда была связана с экологией, природой, наукой. Здесь эта связь манифестарна. Измерения Вселенной, фазовые переходы материи, искусственный интеллект, наличие углерода в живом и неживом веществе («подвижность границы / между органикой и неорганикой») — всё это становится предметом стихотворений «Гекаты», и неочевидность границы между одним и другим, «черта между лесом / и людским итогом» — именно та проблема, которую Глазова раз за разом улавливает. Выбор краткой, почти строгой формы сближает её «научные» стихи с опытом Михаила Ерёмина, свободное, беспунктуационное дыхание — скорее с опытом Геннадия Айги. Впрочем, это не главные параллели. С очевидностью обращённая к Античности, новая поэзия Глазовой возвращается к аристотелевскому времени, когда физика непосредственно переходила в метафизику:
лёд, пар и вода
в точках перехода в себя —
будто сдвиг в возвышенное.каждый порог
нуждается в жертве
сверхсостоянием,грозит призраком замешательства.
Этот переход, как показывает Глазова, загадочен, но в то же время прост, и часто его нужно лишь показать, констатировать:
когда отворяются двери
для самых внутренних
женских вод — роды —разоблачается тот раствор
который помнит
первичный сок живой природыи когда рождение повторяется
каждый раз завязан
её плотный узел
Число строф в этом стихотворении и строк в каждой строфе можно, думается, не комментировать. Именно оно и создаёт магию, встраивая текст в общую задачу книги. Для «Гекаты» вообще исключительно важны мотивы женского — и уже это делает одних читателей соучастниками, других — наблюдателями. Спокойная, объясняющая интонация помогает перейти и этот порог. Таинства Гекаты в Эгине основал сам Орфей, первенец поэзии, — можно ли сказать, что Глазова рационализирует некое сакральное знание, нумерологическое откровение? Если и так, само ощущение тайны в книге сохраняется: вооружённые и научным знанием, и поэтическим озарением, мы не поймём, как именно всё связано со всем и в какой момент неживое одушевляется. Но уже одно знание, что это так, можно противопоставить антагонизму, стремящемуся разорвать мир на части.
— Л. О.
Вера Богданова. Семь способов засолки душ. М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2025.
«Семь способов засолки душ» — новый роман Веры Богдановой, вышедший прошлым летом в виде аудиосериала, а теперь подготовленный к бумажной публикации. Это динамичный триллер — то ли мистический, то ли детективный, в котором наблюдать за калейдоскопом галлюцинаций главной героини, пожалуй, даже интереснее, чем за перипетиями сюжета.
Признанную недееспособной Нику привозят в родной городок, где её ныне покойный отец когда-то был главой секты — аватаром Великого духа в Среднем мире. Староалтайск — город вымышленный, но легко узнаваемый. ДК, районы развалюх, парк, в который ходят гулять абсолютно все, потому что больше некуда, магазин «Продукты», местные сплетни, легенды и знаменитости (Ника — одна из них). Она возвращается не по своей воле. На самом деле почти всем вокруг было бы спокойнее, если бы Ника вообще ничего по своей воле не делала.
Ника перестаёт пить таблетки, и её посещают призраки прошлого — в прямом и переносном смысле. Она не боится видений и мертвецов — но живых людей опасается, и не зря. В Староалтайске опять появляются приюты-притоны, опять исчезают девушки, опять в укромных местах находят трупы — всё повторяется, как в годы Никиного детства. Ника находит помощника и начинает собственное расследование странных преступлений, вместо удостоверения предъявляя статус наследницы главного шамана.
В романе Богдановой много повторов — ситуаций, образов, фраз. В голове у Ники крутятся одни и те же мысли и фрагменты песенок, к ней приходят одни и те же видения (среди которых есть, например, игрушечный заяц). Она каждый день выбирает себе новое имя и бесконечно травит тараканов — скорее метафизических, чем реальных. Наверное, поэтому роман и кажется клаустрофобным и замкнутым — несмотря на горные и лесные пейзажи и переезды героев в другие города. Выход за пределы проклятого Староалтайска ничего не решает — пока не разомкнётся круг самоповтора, пока тараканы, жажда мести, надежды и страхи переезжают вместе с героями из Староалтайска в Омск или Екатеринбург. К чему всё это в результате приводит, не совсем понятно, хотя путешествие и было захватывающим. Одни злодеи наказаны, другие избежали наказания. Очередной круг пройден — но он не последний. Чего-то здесь не хватает, — возможно, продолжения.
Хочется сделать разве что ещё два наблюдения.
Во-первых, самым страшным, действительно наводящим жуть в романе Богдановой оказывается не всякая паранормальщина, не быт мечтающих воссиять послушниц и их наставников-садистов, а банальные человеческие жадность и равнодушие. Аватар Великого духа умереть может, коррупция — никогда.
Во-вторых, несмотря на все ужасы, в тексте оказывается удивительно много любви, благодаря которой повторное погружение героини в ад оказывается не напрасным. Не зря же Ника смахивает то ли на Сару Коннор, то ли на Эллен Рипли — в их историях, полных циклического и неубиваемого ужаса, без любви тоже никак не обойтись.
— А. Ф.
Линда Петерсон. Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка. М.: Новое литературное обозрение, 2025.
«Гендерные исследования» — важная серия книг издательства «Новое литературное обозрение», исследующая культурную, социальную и экономическую специфику жизни женщин в разное время и разных странах. Среди этих книг уже есть несколько посвящённых вопросам литературы (об исследовании Марии Нестеренко «Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России начала XIX века» мы рассказывали нашим читателям).
Новая книга серии написана Линдой Петерсон — соавторкой большого «Кембриджского справочника писательниц Викторианской эпохи», преподававшей в Йельском университете на протяжении 38 лет, вплоть до своей смерти в 2015 году. «Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка» — подробная история профессионализации женского письма на примере творческих биографий известных писательниц: среди них Гарриет Мартино, Мэри Хоувитт и её дочь Анна Мэри и, конечно, Шарлотта Бронте.
Петерсон ссылается на работы множества других авторов, встраивая свой труд в широкий контекст исследований, касающихся не только гендерных вопросов, но и изучения развития профессионального литературного сообщества и индивидуальных авторских мифов. К примеру, она полемизирует с концепцией, представленной в посмертной биографии Шарлотты Бронте её коллегой, влиятельной романисткой Элизабет Гаскелл. Та разделяла повседневное, домашнее «я» Бронте и её творческое начало, утверждая, что они были «параллельными потоками». Этот компромиссный взгляд позволял, не оспаривая викторианский идеал покорной ангелоподобной женщины, всё же отгородить ей место в профессиональной писательской среде. Но он же со временем начал мешать развитию женщин-писательниц в условиях ужесточения конкуренции на книжном рынке.
Что же это значило — быть писателем эпохи правления королевы Виктории? Когда писательство стало профессией и какие у профессионализма могут быть критерии? Что такое гениальность и кто создает гениев? Как отличается миф XIX века об идеальном мужчине-писателе и женщине-писательнице? Книга Петерсон — глубокое профессиональное исследование, которое может стать отправной точкой самостоятельного изучения темы.
— А. Ф.