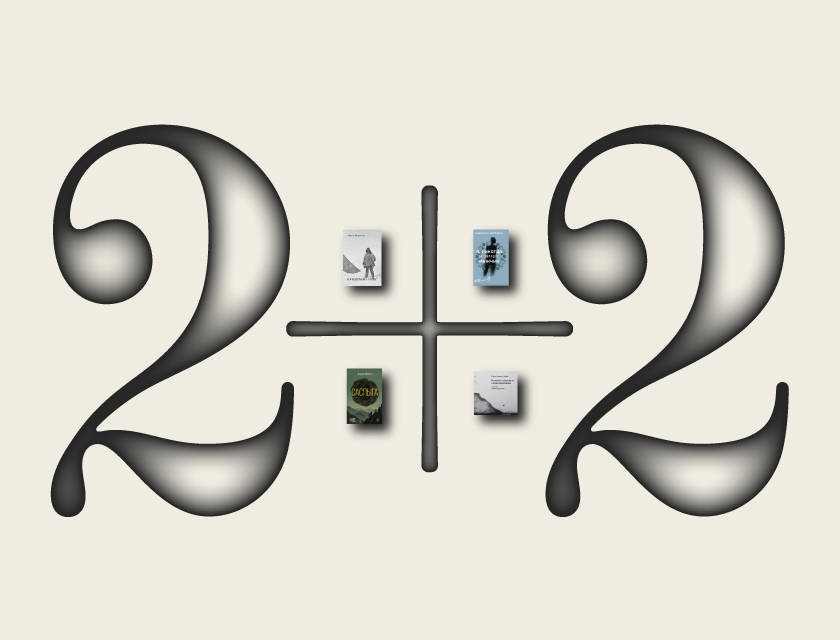Рубрика «2+2» возвращается с каникул, и редакторы «Полки» Лев Оборин и Алёна Фокеева опять рассказывают о новых книгах. В очередном выпуске — курс лекций о том, как философия понимает землю, собрание стихотворений Милорада Павича, автофикшен Маши Константиниди о борьбе с алопецией и подарок для поклонников театра Михаила Угарова.
Максимилиан Неаполитанский. Кто придумал землю? Путеводитель по геофилософии. М.: АСТ; Лёд, 2025.
«Когда ливень сбивает виноградники или покрывает волнами озеро, эти отношения в той же мере заслуживают философии, что и непрерывный спор о наличии или отсутствии разлома между бытием и мыслью», — пишет один из главных героев этой книги Грэг Харман. То же самое можно сказать не только о виноградниках, но и обо всём связанном с землёй — и с прописной, и со строчной буквы: о географических открытиях и геополитике, о гнейсах и солончаках, о горах и пещерах, о земледелии и межевых камнях. И, конечно, о нефти, наполняющей загадочные полости и тоннели глубоко под песками — как это происходит в «Циклонопедии» Резы Негарестани, делающей из Земли что-то вроде гербертовского Арракиса.
Курс лекций поэта и исследователя Максимилиана Неаполитанского посвящён геофилософии — тому, как осмысляли Землю философы от досократиков до современных гуру объектно ориентированной онтологии. Предмет это непростой и в то же время захватывающий; у Неаполитанского есть достаточно козырей, чтобы удержать внимание читателя: так, начинает разговор он с ландшафтов в популярном кино, в том числе той же «Дюне». Далее, после краткого экскурса в историю вопроса, он приступает собственно к мыслителям второй половины XX века, когда геофилософия была постулирована как направление: главные здесь — Жиль Делёз, Бен Вудард, Тимоти Мортон, Донна Харауэй, Джеймс Лавлок, отдельная глава посвящена Валерию Подороге.
Понятно, что для популярного изложения их идей приходится время от времени сводить их к мемам — но, с другой стороны, делая так, Неаполитанский отдаёт должное философии, для которой именно мем может стать отправной точкой. В конечном счёте переработка идей есть создание гуманитарного гумуса, а просветительство экологично. Так, концепция Гайи, выдвинутая Джеймсом Лавлоком, прошла через стадии фантастической гипотезы (что, если Земля — некая биологическая сверхсущность?), но, будучи понята как метафора, легла в основу общепринятой ныне идеи о Земле как слаженно ведущей себя сверхсистеме. С ней можно пытаться договориться, признавая практическую тщетность этих попыток (Бруно Латур), можно счесть её не «доброй», а «злой», враждебной жизни (гипотеза Медеи Питера Уорда), можно объявить её бесконечно непонятной, пугающей — именно в этом направлении, развивая идеи Джорджо Агамбена, двигаются сегодня спекулятивные реалисты. Стоит заметить, что, как часто бывает, философские концепции предваряются фантастической литературой: например, претекстом гипотезы Гайи можно назвать рассказ Артура Конан Дойла «Когда Земля вскрикнула», а гипотезы Медеи — его же роман «Отравленный пояс». В свою очередь, философы заворожены если не научной фантастикой, то современной наукой: её понятийный аппарат, её терминология становятся тем спасительным линем, который сбрасывается с корабля языка, когда предыдущий словарь исчерпал себя.
В этом ключе, как кажется, стоит понимать и Тимоти Мортона, и Донну Харауэй, и таких философов, как Деррида и Делёз. Критики — такие как Алан Сокал и Жан Брикмон — возмущаются, что положения постструктуралистов претендуют на научный статус, но не отвечают критериям научности. Однако на самом деле происходит не «захват науки», а захват и переработка научного вокабуляра, высвобождение его метафорического потенциала. Такое объяснение позволяет выдать некоторый кредит доверия и современной геофилософии, хотя кому-то покажется чересчур добродушным. Важно, что «попытка взаимодействия с наукой», которая всюду встречается в геофилософии, — не шарлатанская, а вполне искренняя, даже если в журнал Science каким-то гипотезам путь закрыт.
Впрочем, важная проблема геофилософии, как показывает Неаполитанский, — в том, что мы до сих пор не можем договориться, что, собственно, составляет проблему и возможно ли объективное знание о Земле. Бен Вудард говорит о безосновности такого знания — упираясь в ещё аристотелевский вопрос о первопричине. Мы выстроили поверх физической земли целый виртуально-технологический домен — то, что Юк Хуэй называет искусственной землёй, а странным образом не упомянутый в книге Вернадский — ноосферой. Природа умирает в буквальном смысле, пока идёт спор, умерла ли она как философская категория; вместе с тем Земля в связке с окружающим её космосом вполне способны сделать так, чтобы исчезли сами губители природы, то есть мы с вами. И если можно, пользуясь книгой Неаполитанского, замерить «среднюю температуру по больнице», то есть среднее умонастроение геофилософов, то оно, безусловно, предельно настороженное. В этом, возможно, есть некая сермяжная эволюционная правда: частая мысль популярных лекций — «мы потомки параноиков, видевших в каждом шевелении куста признак того, что за ним спрятался хищник». А как ведёт себя параноик, сам ставший хищником, и найдётся ли на него хищник покрупнее, — полезный вопрос.
— Л. О.
Милорад Павич. Лунный камень / пер. с сербского Анны Ростокиной. М.: Эксмо, 2025.
Павич был самым популярным сербским писателем XX века, его книги прозы — обязательные спутники юного российского интеллектуала на рубеже 1990-х и 2000-х. В стихах Павича, по-русски публикуемых в таком объёме впервые, читатель, помнящий «Хазарский словарь», «Стеклянную улитку» и «Пейзаж, нарисованный чаем», встретит много знакомого. Во-первых, это реалии — и, если можно так выразиться, ирреалии. Текст Павича развивается в сновидческой логике. Окружающий мир в своей готовности к переменам совершенно не берёт в расчёт человеческих представлений и желаний: «…разрушаются прочие храмы / Всякий раз, как их камень меняет имя». Именно в этой заворожённости ненадёжностью информации нужно искать родство Павича с Борхесом.
На мизинце ношу дверной молоток,
на указательном — в подсвечнике пламя!
Как неграмотный певчий в афонские звуки,
в тень свою замурованный, в имя,
Что стареет со мною, чтоб дунайские звери
под ним распознали меня,
И тогда, когда во сне ощущаю ступнями босыми,
что вещи меняют тени.Это зодчий времени пожирает их имена
и меня в них будто бы в мерёже…
Во-вторых, Павич, как и в прозе, работает с сербским фольклором. Особенно впечатляюще выглядят стихи, основанные на сербском варианте средневекового «Романа о Трое»: гомеровские герои здесь носят такие имена, как Еленуш Приамушевич, Урикшеш Лаэртешич и Анцилеш-молодец. В силу этого, к сожалению, полноценного чтения стихов без примечаний автора и переводчика не получится — но для читателя-гуманитария такое «обвешенное» чтение как раз привычно.
Из всего этого вытекает «в-третьих», удачно подмеченное в предисловии к книге Евгенией Шатько. Дебютный сборник Павича называется «Палимпсесты» — то есть рукописи, созданные поверх других, затёртых рукописных слоёв. Но на деле все слои из разных времён у Павича сосуществуют, и читатель может ассоциировать себя хоть с балканизированными героями Троянской войны, хоть с легендарными монахами. Мистический, выспренний язык Павича достаточно универсален, чтобы это позволить; он связан с древностью вплоть до Античности, но вовлекает современных читателей, используя местоимение «мы» и обращаясь к коллективной исторической памяти:
Но как же мы принесём сухую листву на шляпах
из новых осенейТому кто ведал печали предков своих
и болезни и песни их в своих собственных?
Как мы научим его лесные чащи
откликаться нашими новыми именами
Чтобы и козы, если съедят их, потекли молоком
благоуханным от наших долин?
С камнем в руке, с глазами в морской раковине,
жаждущий пробуждения,
В сновиденьях он приходит в тишинные храмы
на берегах эгейских
Прекрасный метатель копья
чей полёт оказался дольше его жизни.
Речь здесь идёт не о греческом полубоге, а о выдающемся сербском писателе XIII века Теодоре Спане, работавшем на Афоне, а потом оттуда изгнанном. Логично предположить, что поэт здесь ассоциирует себя с героем — но на самом деле не только здесь. Павича часто именуют постмодернистом. Если посмотреть на его сборник, имея в виду постмодернистские этику и прагматику, то поэт оказывается ретранслятором для голосов прошлого. Павич к такой роли относится весьма осознанно:
И знаю, что мой рот — кладбище предков,
что похоронены в словах, как в некой тризне
И слышу: доски мне строгают
всюду, где мои губы мимоходом обронили
Имена вещей; и я лежу во всяком слове,
во всяком погребён из вас для жизни.
Здесь велик риск увлечься высоким слогом. Пытаясь писать гимнически, Павич довольно часто становится совсем уж туманным. И, вероятно, сам замечает это: в ход идут сюрреалистические образы — и приёмы, которые как бы разрывают туман. Это, например, разные средства упорядочения — от рифмы, как в стихотворении «Эдип», и аллитерации, как в «Летающем храме», до дробной циклизации: так, «Служба Реле Крылатице» — вольная имитация богослужения, сохраняющая его структуру. Переводы Анны Ростокиной добросовестно сохраняют эти особенности — иногда чуть ослабляя рифмовку там, где она есть, то есть подчёркивая, что рифма для Павича не главное. Для тех, кто любит Павича, эти переводы станут отличным подарком — хотя вряд ли найдётся читатель, который сочтёт, что Павич в первую очередь поэт, а не прозаик.
— Л. О.
Маша Константиниди. Лысая, или Удивительная и драматичная история о таинственной чёрной жиже, судьбоносных встречах, сомнительных решениях, в конце которой я, к собственному удивлению, не только не сошла с ума, но и приняла себя, хотя вообще-то не планировала. М.: Individuum, Эксмо, 2025.
«теперь я вижу каждого человека в парике, оказывается, их очень много вокруг нас. я часто впериваюсь взглядом в пробор какой-нибудь девушки в метро, когда стою перед ней в час пик. вижу знакомую сеточку и думаю — рак или алопеция? рак или алопеция? алопеция или рак?»
В первой главе короткого автофикшен-романа с очень длинным названием Маша Константиниди вспоминает случай из детства: не заметив под шапкой-ушанкой длинные светлые кудряшки, взрослый мужчина назвал её мальчиком. Понял свою ошибку, смутился, извинился. Это малозначительное происшествие — исходная точка рефлексии и место рождения сомнения. Что значит быть женщиной? Быть женственной и выглядеть как женщина — это одно и то же? Правда ли я — самая хорошая девочка, как говорит папа? Я — красивая? Я — урод?
С одной стороны, главная тема романа — борьба героини с алопецией и её последствиями, с другой — проживание невыносимого стыда за себя, своё тело и решения. История начинается гораздо раньше, чем появляется первый очаг выпадения волос. Гораздо раньше проблем со здоровьем появляется в жизни героини и «таинственная жижа» из заголовка, воплощающая отвращение героини к себе.
«я моргаю. на секунду мне кажется, что кожа разрывается, трескается, чёрная, смолянистая, густая жидкость течёт по рукам вниз, набухает каплями на пальцах и, слишком тяжёлая, стекает медленной ниточкой на пол. чёрная жижа набухает, страшная, огромная, невыносимая, собирается в лужицу. я смотрю на неё и плачу от боли и жалости. я подтираю чёрную жижу носком, как разлитый чай, собирая её края и подталкивая её под стол. я вижу её впервые, я напугана».
Глава «коллекция» — о париках. «туда и обратно» — о том, как волосы на голове отросли, а потом снова выпали — но уже вместе со всеми волосами на теле. «собака мордой куда угодно», — очевидно, о йоге. «татьяна валерьевна и все-все-все» — о трихологе, для которого Маша уже много лет любимый случай. Каждая глава — отдельный маленький сюжет. А ещё в романе есть «χορός (греческая трагикомедия)» и «пьеса «сексуальный дебют». Пожалуй, именно эти инородные жанровые вставки — самые обаятельные части романа. В тексте Константиниди без иронии обходятся разве что самые напряжённые страницы — моменты озарений или совсем уж полного погружения в «чёрную жижу». Но именно в «пьесах» концентрация иронии предельно высока. Даже если больно — всё равно смешно.
«Лысая» — не столько история о борьбе с какой-то одной конкретной бедой или травмой, сколько о том, что жизнь неизбежно будет ранить нас снова и снова — а мы имеем право делать с этой информацией всё, что нам угодно. Бороться и сдаваться, сбегать, шутить, напиваться, обижаться, брать в руки знамя — или не брать. Константиниди не предлагает окончательных решений — ни победы, ни поражения, ни плана действий, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху. В реальной жизни события развиваются вне зависимости от логики сюжета, люди ведут себя непоследовательно, то, что нас не убивает, не делает из нас героев.
«Если у вас или у вашего близкого человека алопеция и вы хотите спросить совета по поводу психологического состояния/клиники/метода лечения, то можете смело писать мне в личку. Вы можете не стесняться задавать мне вопросы по поводу моего заболевания, но будьте вежливы и тактичны, пожалуйста.
комментарий парика: авторка говорит то, что от неё хотят услышать. не хочет она никому помогать, она не активистка и не врач. и спрашивать ничего у неё не надо. и вообще не разговаривайте с ней и по возможности не дышите».
— А. Ф.
Елена Ковальская, Иван Угаров. Постановка взгляда. Михаил Угаров о театре, в котором не играют. Лекции, семинары, интервью. М.: Individuum, Эксмо, 2025.
Михаил Угаров — драматург, режиссёр театра и кино, один из организаторов фестиваля драматургии «Любимовка», вместе с Еленой Грёминой основавший знаменитый «Театр.doc». Не столько теоретик документального театра, сколько практик и глашатай. Театральный реформатор и педагог. В этой книге его сын Иван Угаров и театральный критик Елена Ковальская собрали лекции и расшифровки семинаров, которые он проводил в Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и школе писательского мастерства Creative Writing School. Центральная тема почти каждой лекции — необходимость сделать театр открытым обычным людям и реальности, найти инструменты воплощения на сцене живой жизни, всегда сопротивляющейся субъективному и выгодному кому бы то ни было толкованию.
Тексты лекций восстановлены по сохранившимся у студентов аудиозаписям без литературной обработки, разве что с некоторыми сокращениями — в духе документального театра, который ценит живую речь и видит в её шероховатостях проявление индивидуального и личного. Почему собеседник сбился? Почему повторил одно и то же дважды? Почему вдруг замолчал? Это тайна, а тайна — самое интересное. Процитируем режиссёра: «Анализ режиссёрский строится на интуиции, ощущениях. Мы должны слушать не только что человек нам рассказывает, но и как он нам рассказывает. Какие есть приметы тайны? Первая. Немотивированные паузы. Вот человек что‑то говорит-говорит, потом хоп — пауза. У режиссёра сразу вопрос к себе: почему он сделал эту паузу?»
Во вступительной статье Елена Ковальская предлагает три варианта ответа на вопрос, о чём эта книга. Она о профессии режиссёра, какой её понимал Михаил Угаров. Об особой разновидности театра, которой он посвятил все силы и всё время, которые у него были. О реальности, которая постоянно от нас ускользает, и умении её видеть.
Но ещё она, конечно, о самой фигуре Угарова — его творчестве и взгляде на мир. Не зря сразу за вступительной статьёй следует «Хронология» — краткий перечень главных событий в жизни Угарова, а завершает сборник «Антисловарь» — неакадемический сборник понятий, терминов и установок, важных для режиссуры Угарова и документального театра в целом. Вертикальное и горизонтальное искусство, ноль-позиция, одиночество, повседневность, Лев Толстой (поднятый на щит как предтеча современной документальной драматургии), Антон Чехов (ставший для апологетов нового подхода символом подхода старого) и читка — вот всего несколько статей этого субъективного словаря.
Людям, которые имеют профессиональное отношение к режиссуре и литературе, этот сборник может принести практическую пользу: помимо погружения в специфику документального театра, можно, к примеру, ещё подсмотреть здесь упражнения, которые Угаров давал своим студентам. Зачем эту книгу читать людям профессионально от театра далёким? Чтобы помочь себе лишний раз выйти из автоматического, поточного восприятия событий и почувствовать к миру в самых бытовых его проявлениях неподдельный живой интерес.
«...Зрители говорят: «Мы не хотим видеть в театре то, что вокруг нас, мы это видим каждый день». Наверняка вы сталкивались с этой точкой зрения. Если разобраться, это крупная ложь. Потому что люди, которые считают, что они каждый день это видят, на самом деле ничего не видят».
— А. Ф.