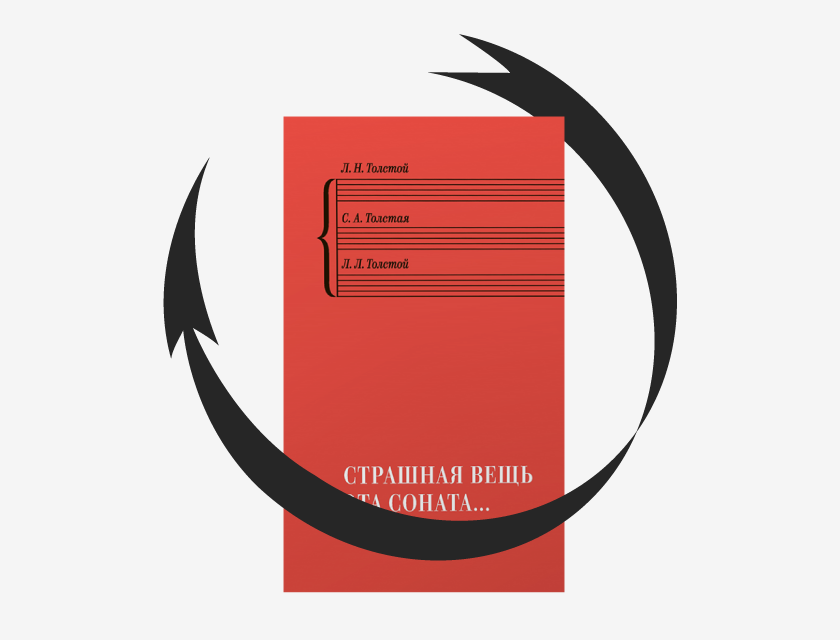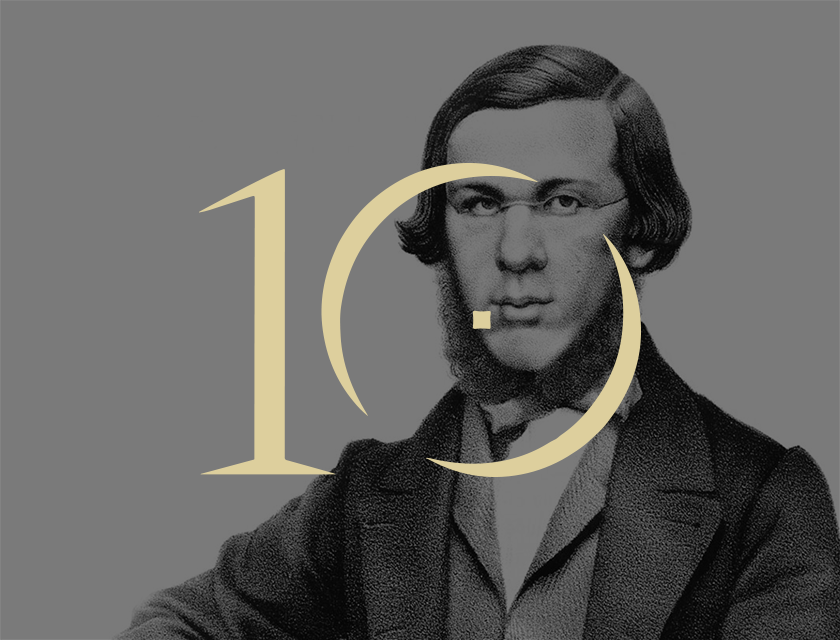12 новинок «Чёрного рынка»
В Москве сейчас книжная неделя — Moscow Book Week. Её кульминацией станет книжный фестиваль «Чёрный рынок», который пройдёт 13 сентября в нескольких локациях на территории ЦТИ «Фабрика». В большой книжной ярмарке принимают участие более 30 независимых издательств, в том числе Ad Marginem, Common Place, Libra, Soyapress, «Альпина» и Издательство Ивана Лимбаха. «Полка» с интересом изучила книжные новинки, которые будут представлены на ярмарке, — и выбрала самые-самые.
Мария Закрученко. Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной. М.: Альпина. Проза, 2025.
Два, если можно так сказать, тренда последнего времени — запреты книг и романы про уютные книжные магазины. Мария Закрученко решила эти несоединимые вещи соединить. Книжный в новейшей беллетристике — одно из идеальных «третьих мест» что в буржуазном мегаполисе, что в маленьком городке; к нему прилагаются эксцентричные сотрудники, мудрый владелец и, конечно, разные преодолимые неприятности. Ну а книжная цензура, родившаяся, вероятно, сразу после самих книг, — повторяющийся мотив антиутопий начиная с «451 градуса по Фаренгейту», и уюта в таких текстах не дождёшься. У Закрученко действие происходит на космическом корабле, торгующем по всей галактике адской запрещёнкой (бумажные книги, по официальной версии, накопили безумное количество радиации и поэтому строжайше запрещены — реальная же причина в том, что напечатанное на бумаге нельзя отредактировать, так что некоторое время назад на каждой планете полыхали костры книжной инквизиции). Главный герой, юноша по имени Дик, бредит этими запрещёнными медиа, а также слухами о том, что была некогда планета-прародина под названием Земля. Имя героя кажется неслучайным: да, происходящее в «Bookship» напоминает произведения Филипа Дика — как мрачные сказки для взрослых, так и детскую книгу «Ник и Глиммунг».
«Bookship» кажется именно книгой в категории young adult: здесь всё грубо-динамично, планеты сменяются одна за другой (одна из них называется Фаланстер), совершаются героические поступки, главный герой постоянно получает по башке и отрубается… Но между экшен-сценами произносятся глубокие вещи — в том числе о том, насколько хрупки знание и книжная культура. «Книги не могут ничего изменить, иначе они давно бы это сделали. Кто-нибудь встал на их защиту, когда книжные магазины уничтожали? Нет. Их радостно сожгли вместе с моими друзьями, которые так же наивно верили в их силу», — произносит капитан корабля «Bookship», и остаток романа Закрученко, во многом прозрачно-аллегорического, посвящён тому, чтобы эти горькие слова опровергнуть.
Ирене Вальехо. Папирус. Изобретение книг в древнем мире / пер. с испанского Дарьи Синицыной. М.: Синдбад, 2025.
Если Мария Закрученко пишет о последних книжных магазинах и библиотеках, то Ирене Вальехо — о первых: её книга — подробный и влюблённый рассказ о том, как зарождалась книжность. Важнейший сюжет «Папируса» — история становления и крушения Александрийской библиотеки, но от него ответвляются другие: развитие устного эпоса, изобретение алфавита и средств для письма, возникновение навыка читать «про себя», неравный доступ к знаниям, появление цензуры, катастрофы, уничтожавшие и, как ни странно, сохранявшие книжные сокровища (геркуланумские свитки, запечатанные в пепле извержением Везувия)… Главная же эмоция здесь — изумление: вот есть странные символы на бумаге, и благодаря им мы можем узнать незнакомую историю, и то же самое могут сделать другие люди… Это изумление настолько искренне и симпатично, что даже общеизвестные истории не кажутся в книге Вальехо тривиальными.
Игорь Гулин. Двадцать. Тексты о русской литературе XX века. М.: Носорог, 2025.
«Человек сталкивается с катастрофами и обещаниями истории, призывом и разочарованием, желанием и страхом. Писатель — всего-навсего тот, кто в этих встречах делает ставку на письмо. Я пишу о том, как работает эта ставка». Один из лучших критиков выпустил первый сборник своих статей: они появлялись в «Коммерсанте» по различным юбилейным и издательским поводам и теперь, собранные вместе, складываются в любопытную констелляцию. Сам подбор имён обходит все попытки картографии канона XX века: между Леонидом Аронзоном и Геннадием Гором, Ольгой Форш и Алексеем Смирновым фон Раухом, Владимиром Буричем и (ужас) Всеволодом Кочетовым нет ничего общего, кроме того, что эти фигуры для усреднённого взгляда на историю литературы маргинальны; большинство из них попадает, как пишет Гулин, «в слепые зоны». Но и фигуры канонические — Платонов, Шкловский, Довлатов — встроены в эту галерею так, что открываются с неожиданной стороны: Гулин всегда смотрит на писателя незаёмным взглядом, и основной его приём — возмущение спокойствия, то есть некоего консенсуса, мешающего разглядеть в писателе самое интересное (скажем, в Юрии Нагибине — его дневники с их трагически-жёлчной откровенностью). Для этого нужно найти в нём парадокс, точку надлома, вокруг которой и выстраивается письмо — напоминая иногда гору перин поверх сказочной горошины. В идеале эта точка совпадает или по крайней мере соприкасается с надломом историческим. Гулину всякий раз блестяще удаётся на это соприкосновение указать. С аргументацией, опирающейся и на литературоведческий анализ, и на личное ощущение; с подвязкой к биографии и к рецепции текстов — но впереди всегда стоит собственное прочтение, разговор с писателем как с непосредственным собеседником. Ради чего книги, собственно, и пишутся.
Бахыт Кенжеев. Избранное. 1972–2022. М.: Рипол Классик, 2025.
Бахыт Кенжеев скончался в прошлом году — после этого вышло несколько его книг, но эта, видимо, самое полное избранное. Пятьдесят лет поэтической работы представлены выборками из всех сборников Кенжеева, пародийные стихи Ремонта Приборова оставлены за рамками — в результате мы видим, как выкристаллизовывался элегический тон кенжеевской лирики, не разрывающей предложений, требующей внимания ко всему стихотворению целиком; как речью поэта заполнялось десятилетие за десятилетием.
Тише вод, ниже трав колыбельная, сквознячок с голубых высот,
бедный голос, поющий «ель моя, ель» с бороздок пластинки подантикварной иглой из окиси алюминия. Не смотри
на тычинки в приёмном лотосе и родной мимозе: внутричудо-яблочка — горе-семечко, и от станции до сельпо
заспешит золотое времечко по наклонной плоскости, понезабвенной дорожке узенькой, мимо клуба и овощной
базы, чтобы подземной музыкой, ахнув, вдруг очнуться в иной,незнакомой области. Кто мы, те, что ушли, не простившись? По ком
телефон звонит в пыльной комнате, надрывается телефон?
Виктор Iванiв. Избранные стихотворения. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025.
Через десять лет после гибели Виктора Iванiва вышло его избранное — подготовленное Алексеем Дьячковым с академическим тщанием: к каждому тексту даны варианты, указаны рукописные источники, места публикаций. Вступление Александра Житенёва и биографический очерк Антона Метелькова этот академический подход усиливают. Тексты же Iванiва, профессионального филолога, исследователя авангарда, — максимально удалены от идеи «университетской поэзии», несмотря на то что гуманитарных аллюзий в них немало: этот поэт продолжал поиски футуристов-визионеров, был наследником Хлебникова и Летова; его стихотворения и поэмы — неостановимый драйв словопорождения. Очень радостно, что эта книга вышла.
Что ты будешь делать 31-го скажи?
Буду лаптем щи хлебать буду пену лопать
С помертвелых губ твёрдых и больших
Буду наволочки шить буду забивать Пенелопа
Буду в косяки метать ножиФитилёк горит у филина Фелина
Жмурят и болят мои глаза
Посиди со мною нюхать керосина
Хватит нам с товарищами у костра
Исаак Роса. Безопасное место / пер. с испанского Вероники Силивановой. М.: Polyandria NoAge, 2025.
Плутовской роман сегодня не самый распространённый жанр, хотя, казалось бы, всё, включая тотальную цифровизацию мира, ему благоприятствует. Другое дело, что электронное мошенничество едва ли можно описать с той увлекательностью, что похождения Ласарильо с Тормеса или Остапа Бендера. Но вот если насильственно сместить приключения в офлайн, всё становится возможно: главный герой «Безопасного места» Сегисмундо Гарсия играет на страхах, рождённых XX веком, и пытается продавать беднякам недорогие бункеры, чтобы переждать ядерный армагеддон, глобальное потепление и всё прочее, о чём можно услышать в новостях. При этом над Сегисмундо постоянно нависает тень его отца, ещё более влиятельного, но в конце концов потерпевшего крах авантюриста, оставившего по себе недобрую память. Теперь Сегисмундо-старший — немощный старик в деменции, который едва ли мог бы понять обращённые к нему гневные монологи сына — из этих монологов и состоит роман. Вообще имя Сегисмундо — что-то вроде маркесовского родового проклятия: сын главного героя, также его носящий, — проблемный подросток, уже проявляющий задатки афериста.
Нынешний, «средний» Сегисмундо — своего рода гений убеждения: он нащупывает больные темы у клиентов, но не говорит напрямую об их фобиях, а делает ставку на образ «безопасного места» и эксклюзивность — о бункерах якобы нет открытой информации, но у тех, кто знает, будет шанс спастись. «Вы продаёте не страх, а безопасность, — учит он своих помощников. — Страх у людей есть и без вас, они его жуют, дышат им, спят с ним в обнимку и просыпаются оттого, что он сушит им горло». И именно страх — тайная валюта, обеспечение всего общества: «Безопасное место» — роман очень интересный, но совсем не весёлый. Внутри у главного героя, пусть он и изображает категоричный нахрап своих литературных предшественников, страха не меньше, чем у его клиентов; огромный ворох проблем, от финансовых до семейных, делает его одним из множества. Таким образом, Исааку Росе удаётся по-своему решить важнейшую проблему плутовского романа: читателю приходится с плутом солидаризироваться.
Ален де Либера. Средневековое мышление / пер. с французского Алексея Руткевича и Ольги Головой. М.: Ad Marginem, 2025.
«Волновавшие средневековых мыслителей «проблемы» кажутся нам далёкими от того, что непосредственно дано нашему сознанию, и чуждыми тому, что наше простое любопытство ищет в анализе древних учений или в повествовании о воззрениях прошлого. Приведём наобум несколько таких «проблем». Выделяется ли пот обильнее под волосами или на других частях тела? Может ли Бог знать больше, чем Он знает? Глупеют ли дураки в полнолуние? Остались ли шрамы на теле Христа после воскресения? Является ли вислоухость признаком благородства? Был ли голубь, в виде коего явился Св. Дух, подлинным животным? Правда ли, что у ложащегося в постель к женщине зрачки, как и у умершего, обращены вверх, а у спящего вниз?»
Вот распространённые клише: Античность — это стремление к гармонии, расцвет искусства, белые колонны, мрамор, боги, герои и задрапированные в простыни философы с кудрявыми бородами, каждый день изобретающие мир с нуля. А Средневековье — это тёмное время, упадок науки, инквизиция и ереси, многотомные философские труды, смысл которых от современного читателя неизбежно ускользает. В «Средневековом мышлении» историк философии Ален де Либера исследует причины формирования такого мнения у профанов и специалистов и размышляет о месте европейской средневековой философии в интеллектуальной истории человечества — а также её роль в формировании понятий «интеллектуальность» и «интеллектуал». А ещё рассказывает, к примеру, о средневековом сексе, астрологии и цензуре. «Средневековое мышление» — не книга для развлечения, но и не сухой научный труд. Читателей, готовых приложить некоторые усилия, чтобы справиться с громоздким синтаксисом, и вспомнить университетский курс философии, ждёт много любопытного.
Надежда Панкова. Про кабанов, бобров и выхухолей. М.: Белая ворона, 2025.
Зоолог, сотрудница Окского заповедника, которая то в резиновых сапогах, то на лыжах обходит немалую территорию, проверяя фотоловушки и отслеживая передвижения зверей, писательница и художница… Надежда Панкова — человек с широким кругом интересов, благодаря чему и появилась эта книга с забавными авторскими иллюстрациями. Короткие заметки о кабанах (а также бобрах и выхухолях) благодаря развитой системе персонажей и сложным взаимоотношениям между ними превращаются в ситком о секачах, самках, подсвинках и поросятах сеголетках и тоголетках.
Конечно, в этих историях много познавательного. Кто в кабаньем семействе главный? Как вести себя при встрече с кабаном? Правда ли, что хвост выхухоли пахнет ландышами? Как живётся бобру с маленьким хвостом? Но ощущения, что всю эту ценную информацию читателю скармливают как полезную микстуру, не возникает вовсе — потому что важнее всего в этой книжке любование. Лесом, речкой, но в первую очередь — кабанами. Вы когда-нибудь любовались кабанами?
«В лучах закатного солнца кабаны казались рыжими, почти апельсиновыми. Они плыли, старательно вытягивая рыльца. Первый кабан легко запрыгнул на высокий берег. Кабанята, плывшие последними, смешно карабкались на берег коротенькими ножками. Особо неловкие плюхались в воду и карабкались снова. Последний кабанёнок, забравшись на берег, посмотрел в нашу сторону и замер. Чуть не свалился, бедняга».
«Про кабанов, бобров и выхухолей» — это вам не «Ребятам о зверятах», это гораздо нежнее, смешнее и трепетнее.
Хироки Адзума. Философия туриста / пер. с японского Валентина Матвеенко. М.: Ad Marginem, 2025.
«Если XX век был веком войн, то XXI век, вероятно, станет веком туризма». Турист — это менее романтичная, укоренённая в обыденности реинкарнация «другого», потрёпанного философскими изысканиями прошлых лет. А ещё турист — это специфический, профанный и дружелюбный, взгляд на мир, возможность поставить частное выше общественного и наладить личные связи там, где политические мосты сожжены.
Размышление о туризме — это размышление об обществе потребления и глобализме. А ещё это разговор о важности случайного и необязательного, о том, как это «случайное» формирует наше мышление и взгляд на мир. А ещё попытка принципиального уничтожения грани между «серьёзными» — а значит, заслуживающими внимания философии и политики — темами и «несерьёзными», годными только для литературных экзерсисов. А ещё — попытка создать дружелюбный к читателю философский труд и ответить на вопрос: «Какая философия нужна XXI веку?»
«Либеральный постмодернизм незаметно переродился в одну из самых нетерпимых и агрессивных форм дискурса. И, вероятно, истоки этого восходят к той самой «интеллектуальной» манере, которую я упоминал: к стилю философских трудов определённого времени, стремившихся ошеломить читателя незнакомыми именами и сложной терминологией, создавая иллюзию, будто теория способна нарезать мир на идеальные и ровные части, — стилю, который был одновременно чрезвычайно маскулинным, нарциссическим и угнетающим», — пишет Адзума и вольно переключается с критики философов прошлого на истории из собственной жизни, со статистики на метафоры.
Кейт Мэнн. Поставь её на место. Логика мизогинии / пер. с английского Анны Лаврик. М.: Издательство Института Гайдара, 2025.
Кейт Мэнн пишет в первую очередь о том, как устроены механизмы мизогинии в якобы постпатриархальных Великобритании, Австралии и США. Тем не менее её работа вполне понятна и в российском контексте. Да и в контексте любого общества, где значительное количество граждан утверждает, что институциональные проблемы женщин давно остались в прошлом. Мэнн занимается моральной философией — и в этой книге в первую очередь её интересуют причины, по которым груз моральной поддержки по-прежнему автоматически взваливается обществом на женские плечи, и осуждение, с которым сталкиваются женщины, отказавшиеся в той или иной ситуации выступить в качестве источника бесконечной доброй воли. Она не стремится к принципиальной новизне тезисов, — кажется, её задача заключается в том, чтобы говорить о важных вещах предельно понятно.
Майкл Мардер. Растения философов. Интеллектуальный гербарий / пер. с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой и Наталии Кротовской. М.: Ad Marginem, 2025.
В размышлениях философов древности растения обычно оставались на периферии. Растительная жизнь обычно занимала подчинённое место в их философских системах — и животные, и тем более наделённые разумом люди стояли несоизмеримо выше. Но деревья, цветы и травы предоставляли бесконечные возможности для метафор и аллегорий, служили иллюстрациями абстрактным концепциям. В своей книге Майкл Мардер старается собрать своеобразный гербарий из таких послуживших философии растений.
Почему для Платона люди — это деревья наоборот? Почему Аристотеля так смущало отсутствие у растений пищеварительной и выделительной системы и как это повлияло на репродуктивную философию? Как груши стали запретным плодом Блаженного Августина, породив традицию, которую продолжили яблоки Руссо и алжирский виноград Деррида? «Платонов платан», «сельдерей Авиценны» и «водяная лилия Иригарей» — в книге Мардера много интригующих заглавий и забавных подробностей биографического, языкового и исторического толка. Но самое интересное здесь, пожалуй, взаимосвязь далёкого (или не очень далёкого) прошлого с интеллектуальными дискуссиями, которые ведутся прямо сейчас. Возможно ли говорить об «этичном» или «неэтичном» обращении с растениями? Есть ли у растений разум? Что вообще такое разумная жизнь и какие формы она принимает?
Михаил Мартынов. Радикальный чёрный. Эссе о цвете, власти и современном искусстве. М.: Garage, 2025.
Может ли цвет сам по себе обладать политическим и социальным смыслом? Может ли произведение искусства приобрести политическую окраску просто потому, что в нём активно используется определённый цвет? Михаил Мартынов исследует чёрный, его политическое значение и место в современном искусстве. Чёрный — горизонтален, в отличие от белого, связанного со светом и солнцем, а значит, и с разделением мира на небесный и земной, и с вертикалью власти. Чёрный противостоит прозрачности как одному из инструментов репрессий — вычеркнутое чёрным не растворяется в эфире, оно кричит о своём отсутствии. Чёрные кляксы — главный враг бюрократической чистоты, проявление случайного и индивидуального в предельно формализированных сферах жизни. Этими, а также многими другими «политическими» свойствами чёрного активно пользуются самые разные художники. Так, blackout poetry — поэзия, созданная с помощью уничтожения фрагментов уже существующего текста, закрашивания чёрным неугодных слов. Существуют и перформансы, и объекты уличного искусства, построенные на игре со светом и темнотой (например, «Чем больше света, тем меньше видно» Тимофея Ради).
«Чёрный рынок» пройдёт 13 сентября 2025 года в ЦТИ «Фабрика».