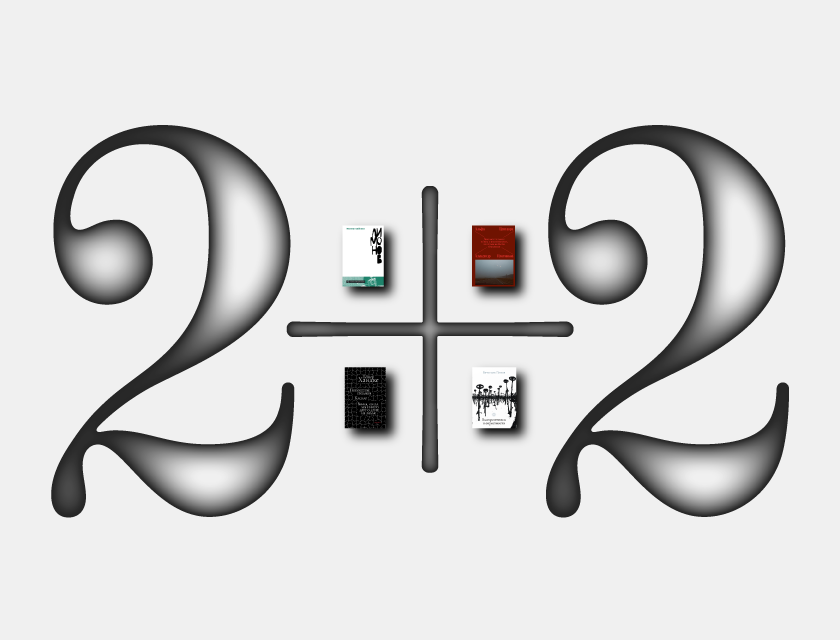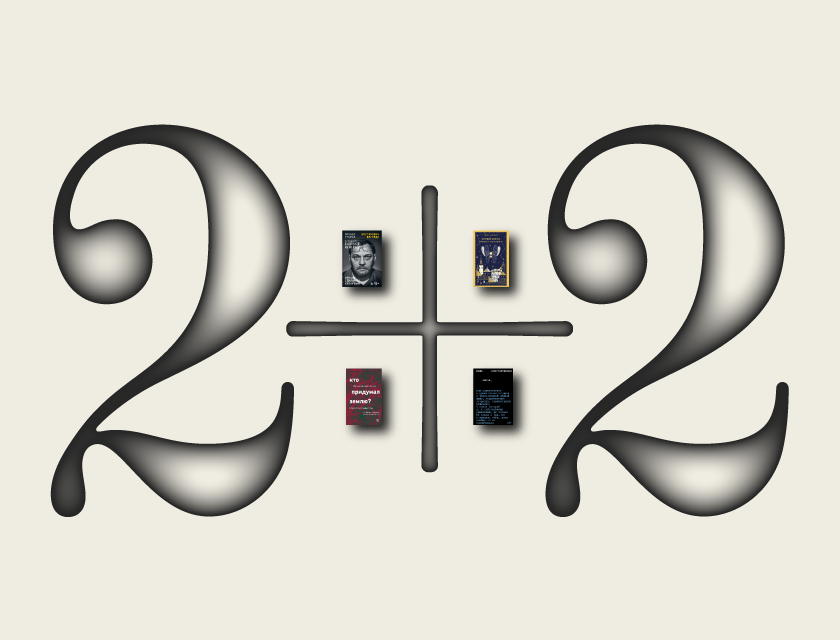Как всегда, в рубрике «2+2» редакторы «Полки» Лев Оборин и Алёна Фокеева рассказывают о новых книгах, которые заслуживают вашего внимания. В очередном выпуске — путеводитель Станислава Зельвенского по кинохоррору, третий роман Еганы Джаббаровой, галерея портретов выдающихся фантастов, созданная Василием Владимирским, и экспериментальная поэма в прозе американского живого классика Рона Силлимана.
Станислав Зельвенский. 100 ужасов Станислава Зельвенского. М.: Кинопоиск; Яндекс.Книги; СПб.: Подписные издания, 2025.
Просто хорроры, хорроры-комедии, слэшеры, «найденные плёнки», хорроры-драмы и хорроры-детективы. Страшные фильмы, которые смотрят всей семьёй, и фильмы, которые в компании родственников вы смотреть бы не стали. По-настоящему жуткие и откровенно нелепые. Фильмы о зомби, вампирах, серийных убийцах, демонах, птицах и врачах.
Книга рецензента «Афиши» и штатного критика «Кинопоиска», год за годом тщательно составляющего списки лучших новых страшилок, состоит из 100 коротких рецензий на фильмы ужасов разных времён и народов. Список фильмов одновременно внушительный и неполный, — впрочем, книга Зельвенского и не претендует на энциклопедичность. В предисловии к книге он говорит о том, что фильмы отбирал «сердцем», а многие признанные шедевры (такие как «Психо», «Чужой», «Кэрри» и «Челюсти») оставил за бортом, поскольку сказать о них что-то новое уже практически невозможно. Зато в книгу попали традиционный хеллоуинский «Битлджус», кишащая резиновыми червяками «Дрожь земли», жутко эстетичное «Лекарство от здоровья» и параноидальное «Вторжение похитителей тел». «Короче говоря, эти сто названий — не более чем информация к размышлению, заметки на полях, фрагмент картины. Любой волюнтаристский список, высеченный в мраморе, выглядит нелепо. И слишком удобно было бы жить, если бы лучшее и любимое вправду собиралось в красивые круглые числа».
Собственно, красивое круглое число в заглавии напрямую говорит о субъективности подборки. Как будто ваш хороший друг, фанат ужастиков, советует любимое кино, надеясь, что вы в конце концов поддадитесь тёмному обаянию и посмотрите хотя бы парочку из предложенных картин.
Короткие кинорецензии Зельвенского строятся так, как обычно строятся короткие кинорецензии: пересказ сюжета без спойлеров, информация о режиссёре и его работах, занимательные наблюдения о технических приёмах и общей атмосфере фильма, реакция зрителей и критиков, рассуждения о том, что хотел сказать автор и что говорит нам сам фильм спустя N лет после выхода в прокат. Всё это, безусловно, занимательно и поучительно, но по-настоящему интересной книгу делает авторский юмор — каждой сардонической шутки ждёшь как подарка.
«Икэда прежде всего эстет и только потом садист», — сообщает Зельвенский.
«С помощью кулаков, отравленных стрел и своего гигантского заострённого фаллоса незваный гость постепенно расправляется с собравшимися», — рассказывает автор.
«...Лучше уж получить инфаркт в угловом офисе, чем раствориться, как аспирин, на гидропроцедурах», — заключает он.
— А. Ф.
Егана Джаббарова. Terra nullius. М.: Новое литературное обозрение, 2025.
«Terra nullius» — это третий роман писательницы, поэтессы и эссеистки Еганы Джаббаровой. Она пишет о себе (Джаббарова — Егана на обложке и Yeganə в тексте, что позволяет создать некоторую дистанцию между автором и персонажем) и своей семье — и всё-таки это не совсем автофикшн. За рамки жанра текст выводит наличие фантастического: неизвестно как и почему по миру начал распространяться похожий на дым газ, лишающий эмпатии и превращающий обывателей в кровожадных убийц. Люди бегут, боясь стать жертвами самого газа или тех, кто уже успел им надышаться. Бежит из своего дома в Екатеринбурге и Yeganə. Говорят, что существует безопасная зона, но добраться до неё очень тяжело. А пока ей приходится жить в лагере для беженцев в контейнерном доме с железными кроватями, делить пространство с чужими и, преодолевая апатию, возиться с документами.
Тема дома, его поиска и утраты объединяет поначалу кажущиеся разрозненными сюжетные линии. Рассказ о мытарствах героини перемежается рассказами о семье из грузинской деревни Земо-Кулари, где абсолютное большинство жителей говорит на азербайджанском. Дети покидают родительский дом и отправляются искать счастья в большом мире — кому-то это удаётся, а кому-то нет. Впрочем, когда Yeganə приезжает в Грузию встретиться с родственниками — живыми и мёртвыми, все линии сливаются в одну.
Дом — это место, где предметы обладают не только функциональностью, но красотой и смыслом. Дом — это там, где похоронены твои близкие. Дом там, где кошка. Дом там, где пахнет едой, где её готовят с любовью и удовольствием, а может быть, дом — это и есть знакомая с детства еда. А ещё дом — это культура, религия и язык (неслучайно в романе столько суфийских преданий, поэтических и песенных вставок, цитат из Корана, упоминаний писателей, в частности Курбана Саида и Марины Цветаевой). Дом — это и текст, который ты пишешь, потому что он тоже наполнен красотой и значением. Дом — то, что исчезает и растворяется, когда ты теряешь с ним связь. И такую потерю приходится прожить не только Yeganə, но и другим героям Джаббаровой.
В тексте появляются персонажи, знакомые (пусть иногда это было шапочное знакомство) тем, кто читал её предыдущие романы — «Руки женщин моей семьи были не для письма» и «Дуа за неверного». Но в этом небольшом и ёмком тексте героев эпизодических практически нет. Авторской любви и участия хватает на всех появившихся в книге персонажей, даже на тех, кто совершает ужасные поступки и допускает непоправимые ошибки. Семейные отношения, пусть даже драматичные, не кажутся запутанными, загадочными или неоднозначными — что, на самом деле, редкость для автофикциональных текстов. В описаниях героев слышится непоколебимая нежность, благодаря которой главы о жизни родственников читаются почти как сказки, рассказанные столько раз, что сомневаться в словах или подбирать интонации сказителю уже не приходится.
А вот главы, в которых повествование ведётся от первого лица, представляют собой пространство сомнения. Это чувство вынуждает автора проговаривать одни и те же мысли по многу раз, что, пусть и создаёт для читателя некоторые трудности в начале повествования, не противоречит общему замыслу книги. Героиня Джаббаровой сталкивается с армагеддоном — глобальным и личным. Даже если у неё и есть шанс повлиять на свою судьбу, судьба мира от неё не зависит. Оставшаяся наедине с собой героиня ходит по кругу.
И всё-таки роман не оставляет чувства беспросветности — выход отыскивается, пусть и условный, эскапистский. Уйти не в себя, а в литературу, сделать себя частью большого культурного контекста, мысленно поселить себя в одном доме с любимыми писательницами (и на одной улице с любимыми писателями). Пусть литература не может спасти от жестокости, но может дать тем, кто лишён опоры, прибежище и возможность высказаться. И это уже немало.
— А. Ф.
Василий Владимирский. Картографы рая и ада. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2025.
«Картографы рая и ада» — это серия портретов, биографических эссе, посвящённых классикам мировой фантастики. Не «история фантастики в лицах», но подступ к ней. Василий Владимирский, вероятно, лучший кандидат на то, чтобы написать такую историю по-русски. Знаток, по-настоящему влюблённый в фантастику, он не просто пересказывает жизнь важнейших авторов, но и демонстрирует их взаимосвязь.
«Карта — это не территория», — утверждал философ, лингвист и основатель общей семантики Альфред Коржибски, у которого в своё время учился Роберт Хайнлайн: эта фраза, попросту говоря, предостерегает нас от того, чтобы путать описание реальности с самой реальностью. Говоря о «картографах рая и ада» (в том числе о тех, кто, как Кристофер Прист, принципиально не верил в карты и предпочитал им работу читательского воображения), Владимирский всякий раз сам как будто набрасывает карту для лёгкости понимания — и напоминает, что собственно тексты этих писателей обещают много больше. Творческие биографии в книге Владимирского разделяются на яркие характеристики, достопримечательности, приглашающие достроить пространство между ними. Гарри Гаррисон — пацифист, один из первых «инфокочевников», одновременно ремесленник и высоколобый редактор; Сэмюел Дилэни — многогранный интеллектуал, которому пришлось преодолевать расовые предрассудки, и один их авторов, принёсших в фантастику сексуальность и контркультуру; Брюс Стерлинг — отец киберпанка, успешный продюсер жанра, нетипичный конспиролог… Все эти люди работали в большой индустрии, меняли её — и в конце концов им удалось сделать нечто существенное по ту сторону жанровых ярлыков, кричащих обложек, скудных и щедрых гонораров.
Есть здесь и портреты фантастов, писавших по-русски, — разумеется, Стругацких (во время недавнего юбилея Аркадия Стругацкого Владимирский был нарасхват и написал о прозе братьев несколько статей, в том числе для «Полки») и Булычёва, но и авторов куда менее известных: Ольги Ларионовой, Бориса Штерна, Владимира Савченко. Причём подробно объясняется, почему тому же Савченко не повезло — в отличие от Булычёва или Стругацких: сказались и педантичность его ранних вещей, скрещивающих фантастику с производственным романом, и поздний пессимизм…
Эта книга — компиляция. Она не писалась «подряд», а составлена из статей, которые Владимирский публиковал в журналах на протяжении нескольких лет. Но эти статьи похожи. С одной стороны, их отличает стремление к лёгкости — и даже шутливости: в текстах о зарубежных фантастах то и дело встречаются русско-советские мемы вроде «партбилет на стол», «облико морале» или «за себя и за того парня». С другой стороны, чрезмерного упрощения не возникает — в том числе из-за того, что как картограф Владимирский избирателен. Он даёт хоть и представительный, но явно не исчерпывающий набор персоналий — и становится интересно, по какому принципу они выбраны. Здесь нет, к примеру, статей о Брэдбери, Кларке, Азимове, Лавкрафте, Ле Гуин, Батлер, Беляеве — зато есть о Борхесе, Балларде и Алисе Шелдон, писавшей под псевдонимом Джеймс Типтри-младший. Дело не в том, кто из героев книги — писатель «какого ряда»: дело в разнообразии авторских стратегий и жанров. В последних двух текстах Владимирский вообще выходит за рамки фантастической прозы: они посвящены мультипликатору Хаяо Миядзаки и создателю комиксов Алану Муру.
Именно статья о Муре (который, не забудем, всё-таки и автор романов), кажется, лучшая в книге. Мур затеял ревизию, даже развенчание поп-культуры — и тем самым оказал на неё огромное влияние; связал комикс с литературой крепче, чем все его предшественники; он находит удовольствие в том, чтобы на глазах у читателя выбрасывать в окно то одну, то другую условность фантастического жанра. В общем, завораживающая фигура, масштаб которой Владимирскому удалось передать. И тут время сделать финальный комплимент «Картографам рая и ада»: это одна из тех книг о литературе, после которых хочется пойти в книжный магазин или библиотеку, чтобы получше познакомиться с героями.
— Л. О.
Рон Силлиман. You / пер. с английского Ивана Соколова. М.: Носорог; СПб.: Jaromír Hladík press, 2025.
Только что попавшая в короткий список премии Андрея Белого в номинации «Перевод», эта книга представляет собой один из многочисленных экспериментов Рона Силлимана. Представитель американской «языковой школы», Силлиман — вечный выдумщик: к большинству своих текстов он подходит как к замыслам и проектам, то сочиняя стихи по предзаданной математической схеме, то фиксируя вид из окна на протяжении года. Если мы начнём подбирать всему этому аналоги, то, с одной стороны, вспомним об авангардных играх французской группы УЛИПО с литературной формой, с другой — о серийном письме Дмитрия Данилова, с третьей — о картотеках Льва Рубинштейна и других практиках концептуалистов.
Переводчик «You» Иван Соколов подробно описывает в предисловии многочисленные практики Силлимана — так или иначе сводящиеся к «срежиссированной случайности». «Силлиман возрождает поэтику календаря, летописи, часослова в ситуации, когда главным жанром новейшей эпохи становится дневник», — продолжает Соколов. Поэма в прозе «You» написана в 1995 году, когда ещё не было слова «блог», а короткие сообщения слали на пейджеры; Силлиман ловит дневниковый жанр в падении, в моменте его наименьшей актуальности — и придаёт ему новый импульс, делая акцент не на событиях из жизни, а на разнообразии того, что можно в жизни узнать и увидеть. Главное здесь — постоянное переключение внимания с одного элемента потока на другой. Как писал Герман Лукомников, «Не правда ли, странно, / Что пока ты читал / Это стихотворение — / Прошло Некоторое Время?» Хорошая поэзия ловит странность, даже когда она проплывает в нескончаемом мусорном потоке повседневности — и когда внимание вдруг становится близнецом рассеянности.
Как это делает именно Силлиман? С одной стороны, он мыслит «новыми предложениями» — грамматически корректными, но автономными фразами, которые не образуют между собой привычных связей:
О запретном трёхлетний сын мой говорит: «Печаль». Лёд невозможно отличить от осколков разбитого стекла. Оглавление, в которое меня не включили. Комната, в которой паричков-нашлёпок больше, чем бород. Огненный шквал проносится по экрану справа налево: нам остаётся представлять себе судьбу мужчин, женщин и детей, оставшихся там внутри. Иду по миру, который ты себе и не представляешь, давно уже его покинув.
Читателю остаётся выстраивать произвольные связи между этими предложениями, тренировать собственный дар ассоциаций — что, конечно, может быть утомительно: читать эту стостраничную книгу приходится довольно долго, и, конечно, это делает её «нетоварной» (в соответствии с положениями эссе Силлимана «Политэкономия поэзии»).
Задача облегчается, если представить себе «You» как поэму о зрении, поэму зрения. Взгляд перескакивает с одного на другое, мозг вплетает эти вещи в текст — тут стоит вспомнить, что само слово «текст» означает «сплетённая ткань». В случае с «You» мы имеем дело с созданием калейдоскопического лоскутного одеяла или мозаики. В него включаются чем-то зацепившие зрение элементы реальности. Если искать этому философский эквивалент, то любопытно вспомнить введённое Альфредом Уайтхедом понятие прехенсии, акта восприятия, который оказывается результатом неосознанного выбора. Если у Уайтхеда речь идёт об элементах восприятия, образующих целый процесс, то Силлиман не предусматривает их концептуальной сборки, а заостряет их «элементарность»: как бы рассматривает каждый узор, каждый камешек по отдельности, а потом переходит к новому. Природа («По топи бродят выпи»), секс, работа, реклама, новые технологии, всякая ерунда. Та или иная вещь, та или иная мысль позвала поэта — и вот перед нами текст, отражение большого периода жизни, как бы высвечивающее в ней потенциал сюрреалистичности или большого сновидения. Недаром «You» завершается вполне связным абзацем о пробуждении.
У этого процесса сборки — своя темпоральность. Текст «You» писался в течение года, по абзацу в день (точно так же переводил поэму Иван Соколов, решив воспроизвести методологию). Изредка одному дню здесь соответствует всего одно предложение: «Впереди привал», «Алые потёки в клочьях туч — предвестие зари». Примечательно, что такое происходит обычно в начале очередной «главы»-недели: Силлиман как бы настраивается на продолжение работы после очередного цикла (хотя есть как минимум одна неделя, когда ему, кажется, было не до письма, — она почти вся состоит из «одностроков»). Вообще, есть подозрение, что этот текст — вещь в большей степени сконструированная, чем хочет казаться: краткие предложения и состоящие из них абзацы обладают какой-то выдержанной ритмической магией. Да и сами резкие переходы от лирического к тривиальному, от грустного к гротескному — память о ритме:
Ничто так не гниёт, как старые пригороды: торговые центры заброшены, в медпункте орудует татуировщик, дом с задёрнутыми тёмными грязными шторами, на рекламном щите снаружи выведена большущая лапа: «Гадаю по руке…» По телевизору лягушки-киборги проквакивают название дешёвой марки пива.
И это в целом понятно: с какого-то момента большая вещь сама себя пишет и заставляет поэта думать вслух о себе, вообще о поэтике и поэтологии. Так появляются фразы «Строфа-плацебо», «Протестировать бета-версию языка», «Диапазон стихотворения» — или «Беда поэзии — в поэтах». Глупо сравнивать «You» с «Евгением Онегиным» — они, разумеется, ничем не похожи. Кроме одного: в них действуют законы, которые не спрашивают у поэта, куда он смотрит, а сами указывают, куда ему смотреть.
— Л. О.