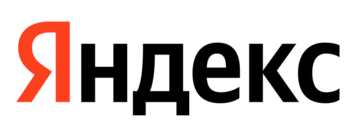Поэзию часто считают областью возвышенного, где нет места «прозе жизни». Но в действительности поэты постоянно опровергают этот стереотип, обращаясь к миру вещей. Самые обыденные предметы и подробности быта в стихах обретают новое измерение. «Полка» решила показать это на нескольких примерах — от XVIII века до современности. Этот материал подготовлен в партнёрстве с компанией «Яндекс», которая только что представила новую функцию своей умной камеры — «Поэзия вокруг»: наведя камеру на любой предмет вашего окружения, вы получите поэтическую цитату, связанную с этим предметом.
Державин: «Багряна ветчина, зелёны щи с желтком»
Державин — поэт, раздвинувший границы материального мира в русской поэзии. Разумеется, предметное и материальное присутствовало в ней и раньше — вспомнить хотя бы ломоносовское «Письмо о пользе стекла», преследовавшее вполне прагматическую цель — убедить покровителя в необходимости ломоносовских научных изысканий. Но именно у Державина в традиционные для XVIII века поэтические жанры активно входит быт. Ода «Фелица» (1782) мгновенно прославила Державина — хотя и распространялась поначалу анонимно. Она была адресована Екатерине II — и Державин сумел угодить императрице, которая читала оду со слезами. Высшее заступничество защищало поэта от критики — а «Фелица» была для своего времени очень дерзкой вещью. Державин всегда умел сочетать высокий пафос с обыденностью и юмором — и те, кто брал в руки его оду, с удивлением читали об императрице такое:
Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом…
Дальше Державин рассказывает о пирах, где на столе есть и «славный окорок вестфальской», и «звенья рыбы астраханской», о псовой охоте и прочих развлечениях. Он описывает будто бы собственные пороки и невоздержанность — но на самом деле метит в фаворитов Екатерины. Впрочем, самые невинные — и в то же время самые шокирующие — признания приберегает для конца этого перечня:
Иль, сидя дома, я прокажу,
Играя в дураки с женой;
То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки резвимся порой;
То в свайку с нею веселюся,
То ею в голове ищуся…
Так в оду императрице — изначально торжественный, чинный жанр — попадают простонародные игры и даже поиск вшей.
Вкус к описанию пиров и развлечений Державин сохранит и впоследствии: в позднем послании «Евгению. Жизнь Званская» он говорит уже именно о собственных усладах в имении Званка. Здесь есть и перечисление блюд («Багряна ветчина, зелёны щи с желтком, / Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны»), и смотр богатого хозяйства: в комнату к Державину
Приносят разные полотна, сукна, ткани,
Узорны, образцы салфеток, скатертей,
Ковров и кружев, и вязани.
Предмет у Державина может быть не только элементом перечисления, но и целой сокровищницей образов и метафор — так же как и природное явление, например водопад. В замечательной книге о державинских зрительных образах Татьяна Смолярова разбирает позднее стихотворение «Фонарь»: она показывает, как популярная оптическая игрушка — волшебный фонарь — становится поводом для настоящей феерии, парада аллегорических животных и людей, быстро сменяющих друг друга: грозный лев, тучный «рыбий князь», свирепый орёл, купец, жених и невеста, Наполеон Бонапарт… Все эти существа порождены магией предмета: фонарь содержит их в себе и выпускает на волю. Державин здесь использует технику, которую впоследствии будет применять Бродский: он также любил перечисления предметов — но и умел извлекать из одного предмета максимум ассоциаций.
Пушкин: «Мой идеал теперь — хозяйка»
«Роман требует болтовни», — говорил Пушкин, работая над «Евгением Онегиным», и эта болтовня во многом состоит из тщательнейшего описания предметного мира. Вероятно, именно это имел в виду Белинский, называя «Онегина» энциклопедией русской жизни: ведь энциклопедия в первую очередь толкует о предметах. В первой главе мы погружаемся в мир петербургского денди, который носит «широкий боливар» и сверяется с «недремлющим брегетом», запивает «roast-beef окровавленный» «вином кометы» (то есть шампанским урожая 1811-го — в том году в небе можно было видеть яркую комету). Во второй главе Онегину приходится переместиться в деревню. Вот он открывает шкафы покойного дяди: «В одном нашёл тетрадь расхода, / В другом наливок целый строй, / Кувшины с яблочной водой / И календарь осьмого года»: вместо ростбифа и бутылки «Клико» в гостях у Лариных ему подают «на блюдечках варенье» и «кувшин с брусничною водой». Обстановка онегинского кабинета в дядином доме — попытка Онегина воссоздать свой мир, окружить себя привычными и неуместными в деревне вещами. Попав в кабинет Онегина после его поспешного отъезда, Татьяна чувствует необычность этой обстановки — и стремится проникнуть в тайну хозяина.
Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на всё глядит,
И всё ей кажется бесценным,
Всё душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
Чугунная кукла — это, конечно, статуэтка Наполеона. Вместе с портретом Байрона она ясно характеризует героя — сына романтического века. Но Татьяне романтизм ещё не известен: она берёт в руки книги Онегина, желая лучше понять его, и начинает читать вслед за ним. На страницах она видит материальные свидетельства того, что именно взволновало его в поэмах Байрона:
Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Одновременно Пушкин разворачивает в «Онегине» совсем другой материальный мир — он настолько непривычен для поэзии (о чём не стеснялись говорить читатели и критики романа), что автору приходится полушутя останавливать самого себя: «Тьфу! прозаические бредни, / Фламандской школы пёстрый сор!» В «Путешествии Онегина» Пушкин с явной иронией вспоминает романтические клише о крымских красотах — и противопоставляет им действительно «прозаическое» описание:
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.
К этой грубой деревенской идиллии Пушкин обращается не раз — и, разумеется, нарочно. В поэме «Граф Нулин» героиня отвлекается от устаревшего сентиментального романа, чтобы посмотреть за окно: там козёл дерётся с собакой, «Три утки полоскались в луже; / Шла баба через грязный двор / Бельё повесить на забор». Ну а в стихотворении «Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» Пушкин — сидящий в карантине в Болдине — отвечает тем, кого «бытовой поворот» его поэзии не устраивает:
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозём, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где тёмные леса?
Неприглядный пейзаж и безобразный быт не могут порождать романтических картин — зато демонстрируют их условность. Ну а реалистическое письмо, не чурающееся горшка щей и белья на заборе, становится такой опорой — не только для Пушкина, но и для его последователей.
Некрасов: «Дал ей ситцу штуку целую, ленту алую для кос»
С Николаем Некрасовым связан не один, а несколько переворотов в русской поэзии: здесь и звучание стиха, и решительное обращение к гражданской тематике, и расширение словаря, и обилие бытовых деталей. Неудивительно, что все эти вещи взаимосвязаны.
Корней Чуковский писал, что черновики Некрасова показывают сознательное стремление «к достижению наибольшей предметности, материальности образов»: скажем, абстрактную строку «Всюду работа кипит» поэт менял на «В кузнице молот стучит». Точно так же в «Кому на Руси жить хорошо» именно предмет быта подчёркивает тяжесть крестьянской участи: «Разломило спину, / А квашня не ждёт!» Даром что песня, в которой звучат эти строки, называется «Весёлая». Когда же крестьяне не говорят о повседневности, а пересказывают легенды, пусть и имеющие к ним прямое отношение, предметные образы меняются: «аммирал-вдовец» хранит вольную для восьми тысяч душ своих крепостных не где-нибудь, а в золотом ларце.
В работе «Слово и предмет в стихе Некрасова» Александр Чудаков замечает, что Некрасов был особенно чуток к «вещному миру» с самого начала поэтического пути — из-за чего критики упрекали его в прозаичности и излишней злободневности: «Уже в первых известных нам стихотворных фельетонах Некрасова… упоминаются первая в России железная дорога Петербург — Павловск, оркестр в ресторане Палкина, только что проведённое газовое освещение, выставленные на Невском дагерротипы, ещё не потерявшие впечатления новизны гранитные сфинксы, поставленные на набережной Невы, движущийся манекен в витрине «завивщика», появившиеся в обилии книги с политипажами, демонстрируемое в одном из балаганов чучело кита и проч.». Некрасовские детали всегда социальны — и умение их подмечать счастливо сочетается у Некрасова с панорамностью. В «Русских женщинах», «Кому на Руси жить хорошо», таких поздних стихотворениях, как страшное «Утро», он охватывает взглядом огромные пространства — деревни, равнины, города. То же можно сказать о времени. «Мороз, Красный нос» открывается картиной зимних крестьянских похорон:
Савраска увяз в половине сугроба, —
Две пары промёрзлых лаптей
Да угол рогожей покрытого гроба
Торчат из убогих дровней.
Но затем Некрасов возвращается назад во времени и, так же тщательно работая с деталями, показывает всю картину тяжёлой жизни крестьянина Прокла, его смерти, описывает, как его обряжают для погребения. В «Коробейниках» через предметы подаётся целый лирический сюжет:
«Ой! легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка
Бирюзовый перстенёк.
Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок — рубаху белую
Подпоясать в сенокос —
Всё поклала ненаглядная
В короб, кроме перстенька:
«Не хочу ходить нарядная
Без сердечного дружка!»
<…>
Опорожнится коробушка,
На Покров домой приду
И тебя, душа-зазнобушка,
В Божью церковь поведу!»
Мечтам коробейника Вани не суждено сбыться. Товары он продаст, но выручка его погубит: его и его товарища застрелит позарившийся на деньги охотник.
Акмеисты: «Перчатка с левой руки»
Отталкиваясь от бесплотности и надмирности символизма и во многом противопоставляя себя ему, акмеисты обратились к вещному миру. В манифесте 1919 года «Утро акмеизма» Мандельштам провозглашает: «Какой безумец согласится строить, если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен победить. Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, и тот не рождён строительствовать, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство». Так слово отождествляется у акмеистов с камнем, а поэзия — со строительством («строить — значит бороться с пустотой»). Одно из самых известных стихотворений Мандельштама «Notre Dame» прямо связывает восприятие архитектуры с поэтическим творчеством:
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные рёбра, —
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам…
Впрочем, Мандельштаму была свойственна и гораздо более лёгкая, воздушная материальность:
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарёю,
В молочные Альпы мечтанье летит.
Идея тактильности, «вещественности» образа в поэтике Гумилёва, Ахматовой и Мандельштама решается по-разному. Метафоры Гумилёва построены на конкретных сравнениях: экзотических, природных, предметных. Глаза — огни или озёра, герой — «конквистадор в панцире железном» и «простой индиец», любовь — лес, болезнь, слонёнок:
Моя любовь к тебе сейчас — слонёнок,
Родившийся в Берлине иль Париже
И топающий ватными ступнями
По комнатам хозяина зверинца.
В ранних сборниках Анны Ахматовой — «Вечер» (1912), «Чётки» (1914) — всё вторит новому акмеистическому течению. Метафизические и земные явления передаются с помощью обыденных, материальных образов:
Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.
или:
Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе,
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.
Наверное, самые известные строки ранней Ахматовой — из «Песни последней встречи»: «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки». Эта ошибка лучше, чем подробное описание чувств, передаёт душевное состояние героини. Ахматова показывает, как чувство находит соответствие в материальном, соматическом: «Показалось, что много ступеней, / А я знала — их только три!»
Маяковский: «Тысячи тонн словесной руды»
Вещь, материя — естественные союзники футуристической поэзии, точнее той её ветви, которая в раннесоветские годы будет манифестирована в журнале «Леф» и после долгих перипетий станет в читательском восприятии магистральной. В первую очередь речь, конечно, о Владимире Маяковском: для этого поэта были важны предметные, индустриальные образы. Одна из статей Маяковского называется «Как делать стихи?», а в 1923 году он посвятил целую поэму «Рабочим Курска, добывшим первую руду»:
Двери в славу —
двери узкие,
но как бы ни были они узки,
навсегда войдёте
вы,
кто в Курске
добывал
железные куски.
Здесь стоит вспомнить, что в «Разговоре с фининспектором о поэзии» Маяковский уподоблял поэзию добыче радия («Изводишь / единого слова ради / тысячи тонн / словесной руды»), а его соратник по «Гилее» Василий Каменский свои визуальные поэмы назвал железобетонными.
Этот «пафос материи» совпадает с пафосом марксистского материализма. В первой крупной пьесе Маяковского «Мистерия-буфф» происходит новый Всемирный потоп — и герои пьесы — «чистые» (аристократы и буржуи) и «нечистые» (пролетарии) — проходят сквозь ад и рай, но подлинной землёй обетованной оказывается царство одушевлённых вещей, которые тоскуют по рабочим рукам:
Б а т р а к
Я бы взял пилу. Застоялся. Молод.
П и л а
Бери!
Ш в е я
А я — иглу б.
К у з н е ц
Рука не терпит — давайте молот!
М о л о т
Бери! Голубь!
Рабочие обращаются к вещам «товарищи вещи». Ни о каком принижающем отношении к вещам тут не может быть и речи — та же логика, вероятно, руководит Маяковским, когда он создаёт рекламные плакаты резиновых сосок («Лучших сосок не было и нет») и папирос «Ира» — или приводит уже в настоящий, а не аллегорический земной рай литейщика Ивана Козырева, которому дали кооперативную квартиру:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованная,
это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.
Вода в кране —
холодная крайне.
Кран
другой
не тронешь рукой.<…>
Как будто
пришёл
к социализму в гости,
от удовольствия —
захватывает дых.
Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,
мыло в руку
и…
бултых!
Характерно, что поздний критик Маяковского Юрий Карабчиевский считал «Рассказ литейщика Ивана Козырева» торжеством того самого бытового мещанства, «обывательщины», с которым Маяковский боролся в более ранних стихах: «Поэт-бунтарь, не жалевший сил для борьбы с отжившим старьём, сжигавший книги, крушивший соборы, расстреливавший картинные галереи, казнивший министров, актёров, коммерсантов, — показывает нам, наконец, для чего он всё это делал. Бултых!»
Советская поэзия для детей: «Откуда стол пришёл?»
Русская детская поэзия и до революции постоянно обращалась к вещному миру — главным образом к игрушкам. Классики советской детской поэзии продолжают эту традицию: достаточно вспомнить цикл Агнии Барто, где игрушки, даже испорченные («Оторвали Мишке лапу»), одушевляются:
Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
Детские поэты апеллируют к любопытству ребёнка, который хочет знать, как вещи устроены. Стихи о создании или ремонте вещей становятся целым жанром — не лишённым дидактики. Маяковский в стихотворении «Конь-огонь» показывает, что сделать игрушечного коня самим гораздо интереснее, чем купить готового:
Компания остаток дня
впустую не теряла
и мастерить пошла коня
из лучших матерьялов.
Вместе взялись все за дело.
Режут лист картонки белой,
клеем лист насквозь пропитан.
Сделали коню копыта,
щетинщик вделал хвостик,
кузнец вбивает гвоздик.
Быстра у столяра рука —
столяр колёса остругал.
А Самуил Маршак в «Мастере-ломастере» показывает, что самоуверенность, помноженная на неопытность, не приведёт ни к каким хорошим результатам. Герой начинает с того, что хочет сделать буфет, который простоит «сотню лет», подробно этот буфет описывает. Но кончается всё тем, что неумелый столяр портит дерево, инструменты — и получаются у него только лучинки для самовара.
У Маршака таких «производственных» стихотворений особенно много. «Откуда стол пришёл?» рассказывает историю создания стола начиная со спиленного дерева. «Мастерская в кармане» — книга про
Отличный
Перочинный
Стальной
Складной
Карманный нож,
который в руках безалаберного хулигана тупится и портится, а потом и вовсе теряется, пока его не подбирают новые хозяева, устраивающие основательный ремонт:
Сначала ножик перочинный
Купали в ванне керосинной,
Клинок отмыли за клинком,
Отшлифовали наждаком,
Тупые лезвия лечили
На карборундовом точиле.
Ну а маршаковское стихотворение «Как печатали вашу книгу» — совсем тонкая игра: дети читают в книге о том, как эта самая книга была создана. Они узнают о труде наборщиков и печатников, о машинах, режущих бумагу и делающих оттиски, — и одновременно держат в руках результат их работы.
Лианозовцы: «Скучно жителям барака»
Для Лианозовской группы — объединения неподцензурных поэтов и художников, возникшего во время хрущёвской оттепели, — предметный мир стал центральной художественной темой. Евгений Кропивницкий, Игорь Холин, Генрих Сапгир, Ян Сатуновский, Владимир Немухин и другие участники группы собирались в бараке в подмосковном Лианозове — на квартире художника Оскара Рабина. Эстетически Лианозовская школа противопоставляла себя официальному соцреализму. Поэты пытались дать голос окружающей низменной, зачастую жалкой и убогой, действительности. Так возникла эстетика барачного быта:
Кто-то выбросил рогожу.
Кто-то выплеснул помои.
На заборе чья-то рожа,
надпись мелом: «Это Зоя».Двое спорят у сарая,
а один уж лезет в драку.
Выходной. Начало мая.
Скучно жителям барака.
Стихи Игоря Холина лишены привычной «художественной выразительности», нарочито голы и аскетичны. Грубый натурализм возникает благодаря неприкрашенной конкретике этого мира, его неприятной вещественности и разговорному языку. Мрачный быт «Жителей барака» описан рубленым ритмом, почти примитивными рифмами:
На стенке барака, у входа в барак
Написано: «Кто прочитает — Дурак»!
Жизнь героев Холина — шофёров, продавщиц, бесконечных соседей и соседок, сторожей и официанток — беспросветна и пуста. Холин будто вычитает из поэзии метафизический уровень. Из барачного мира насилия, пьянства и жестокости нет никакого выхода.
На окне цветочки,
В комнате уют,
У сарая — бочка,
Рядом — водку пьют,
У соседа дочку
В это время бьют.
У Генриха Сапгира этот мир приобретает гротескные, абсурдистские, полусказочные очертания. Почти хармсовская языковая игра помогает выйти из мира советского быта в иную реальность — так строится большинство стихотворений из сборника лианозовского периода «Голоса». Вот, например, экзистенциальные размышления о сходстве вещей «В ресторане»:
Стол
Похож на белый стул.
Бокал
Похож на унитаз.
Мой нос
Похож на множество носов.
И на меня похож
Мой собеседник Носов.
А гладкие рожи
Похожи...
И губы соседки
Похожи...
Я пьян?
Нет, я в своём рассудке.
Сравнения бывают и похуже...
Бродский: «О вещах, а не о людях»
Одно из самых вещественных стихотворений Бродского — «Большая элегия Джону Донну» — построено на приёме «каталога вещей».
Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло всё. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, бельё, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Вплоть до 31-й строки элегия пополняет список неодушевлённых, застывших предметов, которые спят так же, как герой. И если сон становится метафорой смерти, то парад вещей — плотью человеческой жизни. Посвящённая английскому поэту-метафизику Джону Донну «Большая элегия» устроена как воронка: композиция её расширяется от конкретного к масштабному. Сам Бродский характеризовал такую композицию как «перевод небесного на земной», «перевод бесконечного в конечное»: бесконечное многообразие мира воплощается в предельной конкретности вещей.
Подобное напряжённое вглядывание в вещность возникает у Бродского в моменты наиболее интимных переживаний. Поэт, как будто опасаясь непостоянства живых существ, устремляет взгляд на стабильно-статичный мир предметов:
Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещённою стеною.
Мотив говорения о вещах, иронического обращения к надёжности неодушевлённого достигает апогея в более позднем «Натюрморте» (1971):
<...>
Но лучше мне говорить.
О чём? О днях, о ночах.
Или же — ничего.
Или же о вещах.
О вещах, а не олюдях. Они умрут.
Все. Я тоже умру.
Это бесплодный труд.
Лёжа в больнице с подозрением на злокачественную опухоль, Бродский пишет о бессмертии вещей, противопоставленном его собственной смертности: «Видимо, смерть моя / испытывает меня». Название — «Nature morte», что буквально с французского переводится как «мёртвая природа», — как будто опровергается в десятой части стихотворения. Библейская сцена на Голгофе решается здесь не канонически — Мать обращается к Христу с вопросом: «Ты мой сын или Бог? / То есть, мёртв или жив?» И ответом для Бродского служит снятие этой оппозиции: «Мёртвый или живой, / разницы, жено, нет. / Сын или Бог, я твой». Оживлённость человека, как и одушевлённость предмета, создаются единым чувством любви, взглядом другого.
Концептуалисты: «Килограмм салата рыбного»
Поэты московского концептуализма озабочены бытовым и предметным одновременно всерьёз и не всерьёз: материальное для них — повод для иронической ностальгии и для того, чтобы напомнить, что за предметом всегда скрывается некая идея. В поэме «Сквозь прощальные слёзы» Тимур Кибиров создаёт некий компендиум советского — адресуясь к пушкинско-белинской «энциклопедии русской жизни». Героя, одержимого припоминанием деталей, обступают образы и запахи — далеко не всегда приятные:
Пахнет дело моё керосином,
Керосинкой, сторонкой родной,
Пахнет «Шипром», как бритый мужчина,
И как женщина, — «Красной Москвой»(Той, на крышечке с кисточкой), мылом,
Банным мылом да банным листом,
Общепитской подливкой, гарниром,
Пахнет булочной там, за углом.Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Я чую,
Чую, Господи, нос не зажму —
«Беломором», Сучаном, Вилюем,
Домом отдыха в синем Крыму!<…>
Вкусным дымом пистонов, карбидом,
Горем луковым и огурцом,
Бигудями буфетчицы Лиды,
Русским духом, и страхом, и мхом.Заскорузлой подмышкой мундира,
И гостиницей в Йошкар-Оле,
И соляркою, и комбижиром
В феврале на холодной заре…
Читатель поэмы движется по советским десятилетиям, и каждое из них отмечено обилием бытовых деталей: в 1920-е это, например, горящий в печке-буржуйке венский стол, в 1930-е — «снующие автофургоны / С аппетитною надписью «Хлеб» (в таких фургонах часто на самом деле возили не хлеб, а арестованных) и в то же время — роскошная «Книга о вкусной и здоровой пище». А в 1970-е, которые уже хорошо помнит сам автор, — приметы студенческой бедности и стиляжничества: «Супер райфл, суперстар, «Солнцедар». В «Послании Ленке», обыгрывая антимещанский пафос официальной советской поэзии, Кибиров провозглашает: «Леночка, будем мещанами!» — и, отрицая «ушедшие в народ» романтические штампы и богоискательскую достоевщину, предлагает такую позитивную программу:
Жить-поживать будем, есть да похваливать, спать-почивать будем,
будем герани растить и бегонию, будем котлетки
кушать, а в праздники гусика, если ж не станет продуктов —
хлебушек чёрненький будем жевать, кипяток с сахаринчиком.
Впрочем, Бог даст, образуется всё. Ведь не много и надо
тем, кто умеет глядеть, кто очнулся и понял навеки,
как драгоценно всё, как всё ничтожно, и хрупко, и нежно,
кто понимает сквозь слёзы, что весь этот мир несуразный
бережно надо хранить, как игрушку, как ёлочный шарик,
кто осознал метафизику влажной уборки.
В свою очередь, Дмитрий Александрович Пригов в своих «бытовых» стихотворениях демонстрирует, как повседневность обволакивает человека, художника — и становится поводом не просто для высказывания, а для целого художественного проекта. Многие стихи Пригова посвящены стоянию в советских очередях — скажем, в стихотворении «В полуфабрикатах достал я азу…» голос поэта, «гордости России», сливается с типичной жалобой бесправного человека, который полдня простоял в очереди, чтобы увидеть, как из-за прилавка «С огромным куском незаконного мяса / Выходит какая-то старая …..», очевидно получившая это мясо по блату. В таких условиях приобретение «килограмма салата рыбного» в кулинарии — действительно повод для умиротворённого текста:
Сам немножечко поел
Сына единоутробного
Этим делом накормил
И уселись у окошка
У прозрачного стекла
Словно две мужские кошки
Чтобы жизнь внизу текла
Как часто бывает в текстах Пригова, отношение к быту неоднозначно, не может быть окончательно определено: здесь и благодарность «своей» теме («Я всю жизнь свою провёл в мытье посуды / И в сложении возвышенных стихов»), и ироническая характеристика лирического героя через его обыденные действия («Вымою посуду — / Это я люблю / Это успокаивает / Злую кровь мою»), и «банальное рассуждение на тему свободы»:
Только вымоешь посуду
Глядь — уж новая лежит
Уж какая тут свобода
Тут до старости б дожить
Правда, можно и не мыть
Да вот тут приходят разные
Говорят: посуда грязная —
Где уж тут свободе быть
Поэзия сегодня: «Только в этом мире могут существовать сети центров»
Сегодня поэзия на русском языке полна примет современности — как вещественных, так и цифровых: в поэзию проникает специфика социальных сетей и нейросетей, консюмеристская рутина становится поводом для социальной критики. Такие тексты, как «…говорят, белый хлеб едят…» Галины Рымбу или «Когда мы жили в Сибири» Оксаны Васякиной, говорят о страхе, который испытывают люди из-за отсутствия материальных благ, самых элементарных. «Только в этом мире могут существовать / сети центров. // Сети центров гарантийного обслуживания абонентов, / находящихся вне истории», — пишет Павел Арсеньев в «Поэме товарного фетишизма», отмечая, как навязывается стандартность потребления.
Для Екатерины Симоновой вещи — это способ связи с прошлым, с близкими, и физическое здесь объединено с духовным. В одном из её стихотворений рассказывается о смерти женщины, отмеченной инициалом Д.:
родители Д. потихоньку продали всё:
квартиру, где они жили с М., ноутбук, книги Сьюзен Зонтаг,
любимый перстень с фальшивой бирюзой, подаренный М.,
кофе-машину, шкатулку из-под ниток,
сами нитки, хлама совсем не осталось.
В последней строфе вещи — непонятно, принадлежавшие Д. или просто такие же — попадаются рассказчице в интернет-секонд-хенде. Радость от удачной покупки здесь — только маскировка реальных чувств: горя от утраты, благодарности за воспоминания.
Я нашла на авито хорошую рубаху — жёлтую,
то ли с чёрными ласточками, то ли с морскими волнами —
350 р. Купила. Вещи были отличного качества,
даже несмотря на то, что ношеные. Взяла ещё одну.
За две кофты — 600 р.,
неплохая скидка, совсем не пришлось подгонять.
В поэтике Шамшада Абдуллаева вещественность врезана в ткань восприятия. Приметы вещей и людей перечисляются подряд, как части пейзажа, размывая привычное деление мира на субъектов и объекты.
Никакой идеи. Простоволосая
женщина моет посуду. Звон, белые сросшиеся брови, над головой
жёлтый бессмертник. И тишина, которую не возьмёшь
даже приступом. У
водопроводного крана мальчик напялил фальшивую бороду, словно пигмей,
принявший христианскую веру.
Пребывание на «окраине» городского ландшафта у Абдуллаева, поэта Ферганской школы, разрушает привычную иерархичность мышления. Важность обретают незначительные, неуловимые вещи — наряду с тишиной, полусветом, чувством. Фергана вмещает в себя атмосферу Средиземноморья, быт восточной и эстетику западной культур.