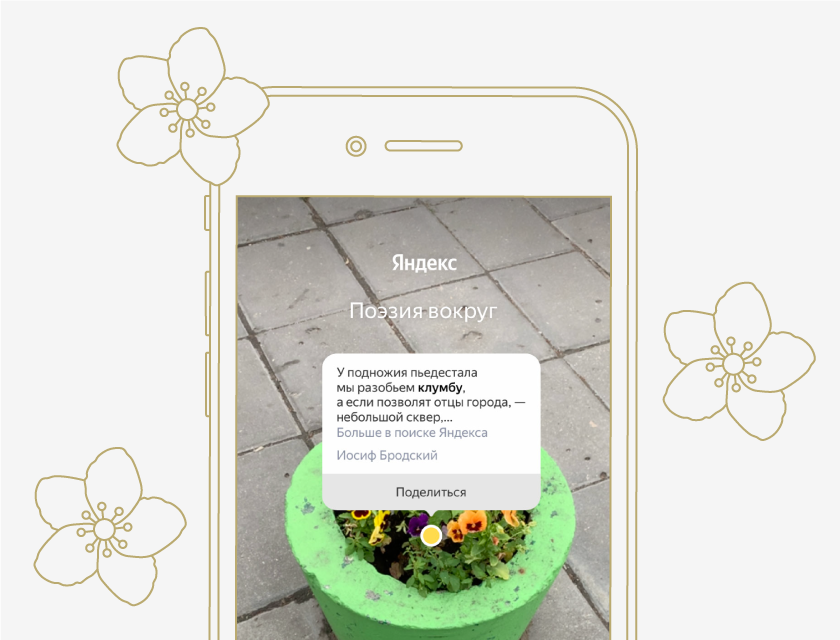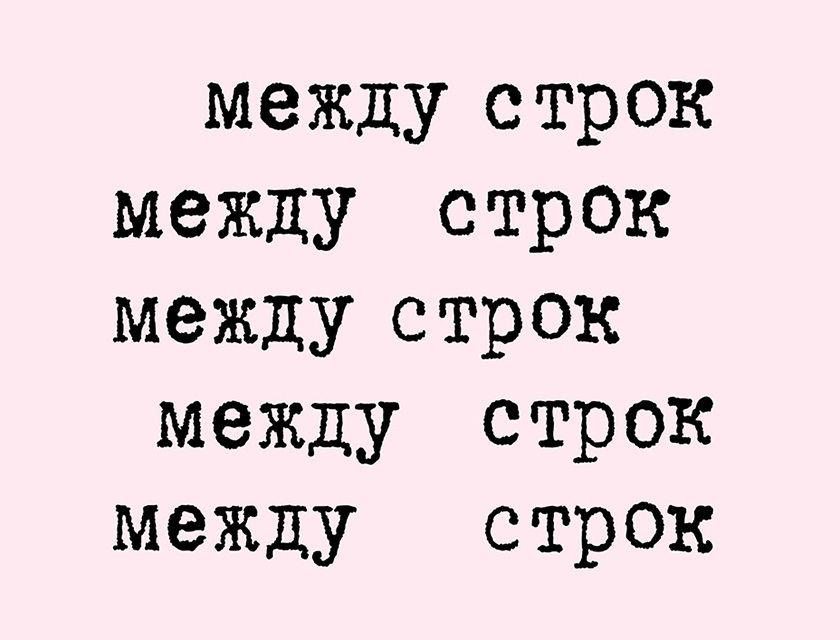«Между строк»: «В полуфабрикатах достал я азу...» Дмитрия Александровича Пригова
Ко дню рождения Дмитрия Александровича Пригова: в подкасте «Между строк» Лев Оборин обсуждает с филологом, профессором Оксфордского университета Андреем Зориным одно из самых известных «бытовых» стихотворений поэта. Как можно выбрать одно стихотворение из многих тысяч написанных Приговым? Можно ли углядеть в стихотворении об унизительном стоянии в очереди намёки на советскую литературную номенклатуру? Почему центральной темой Пригова становится нарушение мирового порядка?
Коллекция RAAN
Дмитрий Пригов
***
В полуфабрикатах достал я азу
И в сумке домой аккуратно несуА из-за прилавка совсем не таяся
С огромным куском незаконного мясаВыходит какая-то старая …..
Кусок-то огромный — аж не приподнятьНу ладно б ещё в магазине служила
Понятно — имеет права, заслужилаА то — посторонняя и некрасивая
А я ведь поэт, я ведь гордость России яПолдня простоял меж чужими людьми
А счастье живёт вот с такими …..
Пригов, наверное, не самый цитируемый русский поэт — но при этом это стихотворение относится к самым известным. Оно всплывает в памяти, когда думаешь: «А что написал Пригов?» — но можем ли мы говорить о том, что его выделяет из тех 20 или 30 тысяч стихотворений, которые он поставил себе целью написать — и, кажется, эту цель осуществил?
Знаете, это вообще проблема. В значительной степени цитируемость автора определяется школьной программой. Но мне кажется, что выбор одного текста у Пригова — очень сложная и малорешаемая задача, потому что его суть и специфика (и он это подчёркивал) состояла в том, что он не мыслил отдельными текстами. Он работал массивами текстов, книжечками, сериями книжек, он называл это «имиджами». Он собирал какие-то тексты в единый «имидж», от лица которого писал одну или несколько маленьких книжечек. Исходя из этого имиджа он наделял какого-то придуманного им поэта специфическим голосом. Когда ему казалось, что от лица этого поэта он всё сказал, он менял имидж. Он говорил, что качество стихотворения определяется не набором слов внутри него, не каждым отдельным текстом, а точностью придуманного имиджа. У многих больших поэтов трудно выбрать одно стихотворение, это нормально. А здесь это в принципе нерешаемая задача, потому что она противоречит структуре и устройству художественного мира Пригова. Но я остановился на этом тексте, во-первых, из-за его эмоциональной силы и апелляции к хорошо понятным каждому мотивам. А во-вторых, из-за его репрезентативности для определённого имиджа, созданного Приговым, и для позднесоветской эпохи, в которую он был написан и очень понятен: каждая деталь точна и находит отклик. Кроме того, это стихотворение чуть больше стандартного приговского текста, потому что у него обычно очень маленький объём — шесть-восемь строчек.
У Пригова есть маска обывателя и простака, у которого, с одной стороны, есть своё суждение на всё, с другой — он постоянно удивлён и слегка возмущён несообразным устройством мира. А есть и, может быть, более близкая к этому тексту маска гения, поэта, человека на равной ноге с Пушкиным. Мы помним его стихи: «Вот Пушкина бы в очередь сию, / И Лермонтова в очередь сию — / О чём писали бы? О счастье». Пригов о счастье писать не согласен: у него, наоборот, здесь происходит какое-то мелкое несчастье. Что из этого стихотворения мы можем узнать об этом человеке и о космосе, в котором он находится?
Здесь очень интересно. Это первым артикулировал Марк Липовецкий, который замечательно писал о Пригове — и, в частности, об этом стихотворении. Притом что маски Пригова всё время меняются, их никто не считал, но ясно, что их десятки, но при этом он узнаваем. И во всех этих масках, даже женских, он всегда апеллирует к своему собственному жизненному опыту, многим из своих героев он отдаёт свои собственные биографические детали. В разных его книжках этот лирический герой, произносящий тексты, имеет имя, отчество и фамилию — всегда Дмитрий Александрович Пригов, всегда живёт в Беляево с женой и сыном.
«Единоутробным сыном», как мы знаем.
Да. Это из стихотворения «Килограмм салата рыбного...». В этом смысле, действительно, ты всегда чувствуешь и узнаёшь Пригова, его авторский бренд очень сильный при всей переменчивости. И в этом стихотворении — об этом Липовецкий тоже говорил — имидж великого поэта, всемирного гения, и имидж простого обывателя, человека, живущего «жизнью общей», — они вместе собраны. Но очень важная нота, я бы сказал — лирическая, которая состоит в единстве человеческого опыта. И здесь Пригов следует знаменитой формуле Элиота: чем отличается поэт от обычного человека? Обычный человек читает Канта, завтракает, работает на службе, наслаждается погодой и так далее — и это разный опыт. А то, что отражается в стихах, — это один опыт. Ты умеешь так сказать, чтобы весь твой опыт собирался в это единство.
Это интересно, потому что у Пушкина, на которого ссылается Пригов, наоборот: «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», он может быть абсолютно таким же обывателем, а потом преображается.
Да, так написано в стихотворении «Поэт», но если мы обратимся к другим его текстам, то увидим иную картину. «Я снова жизни полн — таков мой организм» — стихотворение «Осень», здесь бытовое и поэтическое собрано вместе. Стихотворение «Поэт» отражает определённую концепцию, которой Пушкин в своих собственных стихах далеко не всегда следовал. Но, как говорил Пригов, «я тот самый Пушкин и есть». Поэт, слуха которого коснулся «божественный глагол», и этот человек — Пригов знает и помнит об этом — тоже должен чем-то питаться. Иначе «божественный глагол» не коснётся его слуха и сказать он ничего не сможет. В этом же цикле Пригова есть другое, моё любимое стихотворение:
Как зверь влачит своей супруге
Текущий кровью жаркий кус
Так я со связочкой моркови
С универсама волокусь...
Это тоже поэт. С одной стороны, он сравнивает себя с великим хищником, но в то же время несёт «супруге» связочку моркови.
Из собрания МАММ
Как у Маяковского: «Не домой, / не на суп, / а к любимой / в гости / две / морковинки / несу / за зелёный хвостик». Если возвращаться к Пушкину: может быть, Пригов здесь опять отыгрывает какой-то романтический топос? Он говорит: «Я поэт и стоял с чужими людьми». То есть, возможно, формула «поэт и толпа» в позднесоветском космосе — это «поэт и очередь»? Очередь концептуалистов вообще занимает — у Сорокина есть целый роман, который написан в форме диалогов в очереди и так и называется — «Очередь». Получается, что в этой очереди можно и постичь этот космос, став его частью и одновременно сохраняя свою отдельность?
Очередь — важнейшая реальность советского быта, впечатавшаяся каким-то жутким унижением в опыт каждого человека. Я уже в глубоко постсоветское время, когда очередь перестала носить метафизический характер, сам чувствовал, что не могу себя заставить в неё встать. Казалось бы, надо всего десять минут постоять — невозможно! Такой силы эмоции поднимаются…
Это ужасно интересно. А вот очереди за новыми айфонами, видимо, абсолютно непонятны для человека с советским опытом.
Советская очередь — это способ проживания жизни... Но в этом тексте, с одной стороны, есть протест, отчаянный выкрик — «Полдня простоял меж чужими людьми». Очередь воплощает, с одной стороны, твой ничтожный социальный статус и униженность, а с другой стороны, служит символом мирового порядка! Герой Пригова этот порядок принимает. Понятно, что надо стоять.
Древнегреческий рок в каком-то смысле?
Это порядок вещей, у каждого есть свой номер. На романтическую бурю, на бунт тебя провоцирует нарушение порядка. Он несёт аккуратно своё азу, а тут… Как и всякий советский регламент, да и не только советский — сейчас так же регламенты выстраиваются, Пригов здесь очень точен — регламент формируется вместе с правом на нарушение. Любой регламент существует не для того, чтобы его все выполняли: главная его функция — сортировка людей на тех, кто имеет право его нарушать, и тех, кто не имеет такого права. И эту часть регламента герой стихотворения тоже принимает. Он с ней согласен. «Понятно — имеет права, заслужила». Люди, которые работают по ту сторону прилавка в магазине, имеют законное право на нарушение регламента, это не возмущает. Возмущает, что она чужая «и некрасивая».
Что называется, блатная. И, например, дружит каким-то, — возможно, интимным — способом с директором магазина.
Да, да! Есть интериоризованный в сознании советского человека порядок, в котором есть категории людей, которым «положено», и ты готов смириться со своим низким потребительским статусом. Ты готов его принять, поскольку тебе дали твоё азу. И достаточно, большего и не надо.
Ты его не выпячиваешь, несёшь его незаметно, потому что и азу — в каком-то смысле привилегия, кому-то оно не достанется.
Мне положено получить это азу, и я его «аккуратно» или, в другом варианте, «незаметно» несу. Тут в этих вариантах акценты разные. Незаметно — чтобы не вызвать зависть других, а с другой стороны — аккуратно, чтобы не потерять или не повредить по дороге. Потому что это драгоценность, ты полдня стоял, ты получил это азу… А тут нарушение космоса, нарушение миропорядка.
Это связано у Пригова с его стихами о Милицанере. Милицанер — это и есть тот, кто поддерживает и сохраняет миропорядок. «Вот придёт водопроводчик / И испортит унитаз / Газовщик испортит газ / Электричество — электрик». Но кончается так: «Но придёт Милицанер / Скажет им: Не баловаться!» Есть космический порядок, который поддерживается фигурой Милицанера. Или как в сборнике «Образ Рейгана в советской литературе», когда Милицанер говорит Рейгану, олицетворяющему хтоническое зло: «А Бог на то нас здесь и поставил!» — чтобы порядок соблюдать. Понятно, что советский милиционер на Бога не ссылался, но это — воплощение мирового космоса. И поэт вспоминает о своём поэтическом достоинстве, о том, что его слуха коснулся Аполлон, в тот момент, когда вера в незыблемость космического порядка разрушается.
Хочется ещё поговорить об «иконостасе» Пригова, в котором существует, с одной стороны, дьявольский Рейган, «мериканская …..», которая должна сгинуть, газ перекрывает, не даёт нам есть и спать. А с другой стороны, есть Милицанер, который возвышается, «не скрывается» и всем виден — как такой Столп и Утверждение истины. Насколько приговский советский космос сакрализован?
Знаете, здесь очень интересная логика. Была такая книжка «Словарь терминов московской концептуальной школы», и там есть категория, очень существенная для Пригова. Он её любил и часто ею пользовался, описывая собственные тексты. Это категория «невлипания». Суть состояла в том, что ты должен держаться чуть в стороне от того, что потом назвали дискурсом — вернее, назвали чуть раньше, но русские интеллектуалы об этом слове узнали позднее. Ты говоришь иронически, но ты не являешься пленником иронии. Ты говоришь абсолютно серьёзно, профетически и трагически, но ты не являешься пленником трагизма. То есть твой голос не «влипает» ни в один из дискурсов, о котором ты говоришь. Поэтому ни в одной точке текста тебя нельзя прикрепить к: «это в шутку», а «это всерьёз». В каждой точке ты имеешь дело с голосом и жестом автора, который не полностью пригнан к тексту. И по отношению к позднесоветской реальности, о которой Пригов пишет, это очень существенно. Потому что, конечно, с одной стороны, это и обеспечило гигантский успех его стихотворений в позднесоветское время: ироническая составляющая, насмешка над этим порядком, ирония, отстранение, абсурдизация — и именно на это публика реагировала в 1980-е.
Но с другой стороны, у Пригова всегда есть и более глубокая сторона. Потому что советский порядок — это какой-то вариант общемирового порядка. Один из возможных существующих на Земле порядков. Человек в неупорядоченном мире жить не может. У него должно быть представление о том, что его космос как-то упорядочен. И для носителя, для субъекта приговских текстов, для условного автора, который называется всегда Дмитрий Александрович Пригов, этот порядок есть единственно возможный. Он его и воспринимает как данный ему космический порядок. Именно поэтому Рейган — не просто малоудачный американский президент, скверно настроенный, но является силой абсолютного метафизического зла. Потому что советская пропаганда зло проецировала на США. Помните стихотворение про «Звёздные войны» и СОИ, когда Рейган предложил Стратегическую оборонную инициативу (СОИ), которая должна была нарушить какой-то баланс сил, паритет? Герою-автору приговских творений, который узнаёт про это, трудно вникнуть: что такое стратегический паритет, в чём суть этого СОИ? Дело не в этом, а в том, что
Американцы в космос запустили
Сверхновый свой космический корабль
Чтобы оттуда, уже с места Бога
Нас изничтожить лазером — во ...!
Ну хорошо там шашкой иль в упор
Из-под земли, из-под воды, из танка
Но с космоса, где только Бог и звёзды!
Ну просто ничего святого нет! —
Во, ...!
Многие стихотворения Пригова о советском мире и о советской пропаганде — это такие «монологи у телевизора», взаимодействие с говорящей стеной, осмысление того, что она тебе говорит.
Да. Для меня здесь важно, что это не просто насмешка над телевизором или насмешка над сознанием человека, который всё это всерьёз воспринимает, — но это и попытка увидеть праоснову, увидеть жажду и потребность всякого человека в гармонии, в мире, где есть Бог. Где есть столп, его поддерживающий. Где есть понимание добра и зла — того, что в принципе возможно, и того, что ни при каких условиях нельзя. То есть того, что в постсоветское время получило название «беспредела». Ты можешь жить по понятиям, а не по закону, но всё равно какие-то нормы в жизни должны существовать. И Пригов добирается до корней этих норм, которыми должен был жить всякий наивно верящий телевизору позднесоветский дурачок — потому что в ту пору уже мало кто наивно верил телевизору. Вернее, это тот конструкт человека, которого пропаганда придумывала и представляла себе как своего потребителя. Но Пригов докапывается до фундаментальных корней, где эти пропагандистские штампы выражают базовую человеческую потребность. И в то же время он не говорит об этом полностью всерьёз, потому что — конечно! — эти тексты и насмешка, и ирония, и абсурдизация. Он именно не «влипает» ни в один, ни в другой поворот этого сюжета.
Морковкин Анатолий/ТАСС
У Пригова был ещё термин «мерцание», относившийся к этой амбивалентной позиции субъекта, про которого мы не можем точно сказать — всерьёз он или шутит, кто он вообще такой. А можем ли мы назвать каких-то возможных предшественников Пригова здесь — или это его изобретение?
Знаете, как всегда с большим поэтом, писателем, — тут есть что-то, что является его изобретением, но без предшественников не бывает новаторов. На голом месте искусство не создаётся, как и ничего вообще. В первую очередь мне приходит в голову Зощенко. Именно тем, что, с одной стороны, его феноменальный успех был связан с насмешкой над реальностью, над абсурдностью того мира, который он воссоздавал. А с другой стороны, с внутренним пониманием реального устройства мира городского обывателя, от лица которого он говорил.
И на его языке.
На его языке, его словами. О создании зощенковского мира сильно написано в, на мой взгляд, лучшей книге о Зощенко — «Поэтике недоверия» Жолковского. У Зощенко тоже присутствует эта жажда порядка. Потому что мы с Дмитрием Александровичем жили в позднесоветское время, относительно вегетарианское. Он застал молодым человеком «вампирический» период сталинской эры, я уже нет, но большую часть жизни и он прожил в позднесоветское время. А Зощенко знал другое время, и там эта чудовищная система прежде всего ломала порядок вещей. Она ломала твои представления о возможном, о невозможном, о существующем, о нормах и правилах. И вот тоска по организованному и налаженному миру, который нарушается каждую секунду, и способ выразить её на своём языке — вот это было потрясающее открытие Зощенко.
Интересно, что при жизни Зощенко его враги и советская критика говорили, что он говорит от лица обывателя, что он и есть этот ужасный обыватель. Те же, кто пытался его реабилитировать, говорили, что это сатира на обывателя. А по прошествии некоторого времени выяснилось, что самые глубокие исследователи ближе в этом отношении к советской критике. Потому что они понимают, как устроен голос Зощенко, как он говорит от лица советского человека.
Андрей Платонов
Михаил Зощенко
Николай Олейников
Андрей Платонов
Михаил Зощенко
Николай Олейников
Андрей Платонов
Михаил Зощенко
Николай Олейников
Но при этом я бы сказал, что для Зощенко это был более сильный и более трагический эксперимент. Там «невлипания» было меньше. Он хотел «влипнуть» в этого человека! И ему это удалось. У Пригова заряд романтической иронии больше, чем у Зощенко, на мой взгляд. Перед ним стояла менее страшная и, вероятно, менее кровавая задача, хотя тоже опасная в позднесоветское время. Но Зощенко мне кажется самым заметным из его предшественников.
Интересна асимметрия в отношении между Платоновым, который тоже занимался подобным экспериментом, и Зощенко. Зощенко восхищался Платоновым и считал его гением — вероятно потому, что тот говорил абсолютно «нутряно» на этом языке. То, для чего интеллигенту Зощенко требовались усилия, рабочему-интеллигенту Платонову давалось легко, он изнутри это чувствовал. А Платонову не нравился Зощенко: он говорил, что это зубоскальство. Его элемент иронии в этом во всём как-то смущал, раздражал. И мне кажется, Пригов идёт ещё дальше от Зощенко в сторону зубоскальства. Если представить, что на 90 градусов мы от Платонова поворачиваемся к Зощенко, то дальше ещё на 45 градусов поворот, который делает Пригов. В поэзии в этой связи, может быть, имеет смысл говорить о Николае Олейникове. Не об обэриутах, не о Хармсе.
Может быть, о Пруткове?
Прутков всё-таки в чистом виде пародия. И не случайно его создатели писали совсем от чужого имени. Они выдумали чиновника и говорили от него. Олейников более похож. Я пытался вывести Пригова на этот разговор, но он был невероятно умышленным человеком, спровоцировать его на то, чтобы сказать то, что он не хотел, было невозможно. И он не соглашался ни в какую на свою близость к такого рода авторам. Он говорил, что ориентируется на Ахматову и Блока, потому что ему интересна чистота работы человека с образом, со словом. Вживание в образ. Вот у них это получилось идеально чисто: «Я пытаюсь эти образы менять, перенадевать и так далее. И для меня образцами поэтов являются Блок и Ахматова — а не Хармс и Олейников». Вот это я помню.
Это проблема человека, пишущего о Пригове: он сам всё продумывал на четыре хода вперёд. Поэтому я и говорил, в частности, ему в нашем разговоре, что для меня единственный способ о нём думать — это встать совершенно перпендикулярно, говорить об этом как о чисто лирической поэзии.
Вновь к вашей центральной мысли о возмущении нарушением порядка и о том, что его как-то необходимо восстановить: не отсюда ли приговская страсть к каталогизации, к мышлению циклами, к перечислениям, к азбукам — буквально каким-то детским способам разговора о мире?
Да! Абсолютно. Здесь тоже есть две стороны: как всегда у Пригова, очень разные, но ему удаётся их собрать, сложить из них сложный пазл. С одной стороны, есть тоска человека, взыскующего порядка в жизни. Но, с другой стороны, есть и поза романтического демиурга: он — сам устанавливает этот порядок! Это Творец, человек, создающий мир. Как в «Куликовом поле»: «Вот этих справа я поставил / Вот этих слева я поставил».
Да, как будто Бог играет в солдатики.
А с другой стороны — реакции его:
А всё ж татары поприятней
И имена их поприятней
И голоса их поприятней
Да и повадка поприятней
Хоть русские и поопрятней
А всё ж татары поприятней
Они чисто бытовые, обывательские. «Татары, значит, победят / А впрочем — завтра будет видно». В конце концов и Бог не может разобраться в том, что он тут такого натворил. Пригова очень волновала тема творения из ничего, особенно в последние годы жизни. Для него искусство было актом творения из ничего, творчества в прямом смысле слова. И здесь тоже очень важны порядок, каталог, азбука. Господь, как мы знаем, тоже всё делал правильно, по порядку.
Мне хочется вернуться к стихотворению, с которого мы начали разговор. В своей статье о Пригове вы пишете, что персонаж, который «совсем не таяся» тащит из-под прилавка заветный продукт, эта «старая …..», непонятно как попавшая в магазин, — это возможная персонификация какого-то номенклатурного автора. «Михалкова или Евтушенко», пишете вы. Почему вам кажется, что мы должны эту бытовую ситуацию переносить на советский официальный и неофициальный литературный процесс?
Вопрос возвращает меня к моим размышлениям почти тридцатилетней давности. Бесконечная экономика дефицита, «доставание». Формула «достал» до какой-то степени отражает нарушение порядка. Каждый человек борется с этим порядком или борется за свой маленький кусочек в обстановке тотального дефицита. Есть идеал распределения благ — кому что положено. И тем, кто находится внизу, не положено вообще ничего. Но каждый мечтает урвать себе, «достать», получить чуть больше того, что положено. Ты играешь в постоянную игру с системой. Поэтому ты всё время занят, ты побеждаешь. Ты принёс домой азу — и ты победил систему.
И мне показалось важной изоморфность этой ситуации экономики потребления с политикой запретов и разрешений, существовавших в области, в которой жили интеллектуалы. Одним положено печататься — всегда гигантскими тиражами, получая громадные деньги. Другим можно — за маленькие деньги маленькими тиражами, но можно. Третьим надо себя «пробивать» — слово, абсолютно соответствующее формуле «достал». Тебе «не положено», но тебе время от времени удаётся что-нибудь «пробить». Ты куда-то проскакиваешь и что-то такое получаешь.
«Пробил книгу», «пробил публикацию»?
Да. «Я пробил» — такая же частная победа над системой, как и «достал» в потребительской экономике. Дело в том, что позиция концептуалистов и вообще позднесоветского андеграунда отличалась от позиции предшествующего поколения авторов. То поколение андеграундных авторов было людьми, которых не печатают. Они пишут, но им отказали — как в случае с Бродским или Довлатовым. Довлатов уехал в Таллин, чтобы «пробить» там свою книжку — рассыпали тираж в последний момент. Бродский подавал книжку, ему сказали: «Напишешь стихи гражданского содержания — напечатаем». Он не написал, условия его не устроили. Но ему хотелось видеть себя напечатанным. Венедикт Ерофеев, который для нас абсолютный апофеоз подполья андеграунда, как был счастлив, когда увидел напечатанную книжку, когда его ставили в театре и т.д.! Об этом есть свидетельства в книжке Лекманова, Свердлова и Симановского. А поэтика концептуализма и бытовое поведение концептуалиста состояли в том, что «мы не хотим, не собираемся, не планируем и не интересуемся».
С Приговым мы обсуждали это подробно, когда его всё-таки начали печатать. И он мне сказал: «Это вообще вещь, не имеющая отношения к тому, чем я занят. Мне говорить «я не буду печататься у вас, дураков» — такая же фальшь, как раньше носить в редакцию свои произведения. Хотят — пускай печатают. Нравится кому-то — ради бога!» Я ему сказал: «Дмитрий Александрович, а вы не хотите сделать «Избранное», том издать?» Он сказал: «Я — нет. Вы делайте, если хотите, я дам вам полный карт-бланш. Что вам нравится, то и выбирайте». Я сделал. То есть его позиция была «я работаю, я пишу, а вся эта суета ко мне и к тому, чем я занят, не имеет отношения».
Дмитрий Александрович Пригов. Явление стиха после его смерти. Издательство «Текст», 1995 год
Дмитрий А. Пригов. Ренат и Дракон. Издательство «Новое литературное обозрение», 2011 год
Дмитрий Пригов. Стихограммы. Париж: Журнал «А — Я», 1985 год
Дмитрий Александрович Пригов. Написанное с 1990 по 1994. Издательство «Новое литературное обозрение», 1998 год
Пригов Д. А. Монады. Издательство «Новое литературное обозрение», 2017 год
Дмитрий Александрович Пригов. Явление стиха после его смерти. Издательство «Текст», 1995 год
Дмитрий А. Пригов. Ренат и Дракон. Издательство «Новое литературное обозрение», 2011 год
Дмитрий Пригов. Стихограммы. Париж: Журнал «А — Я», 1985 год
Дмитрий Александрович Пригов. Написанное с 1990 по 1994. Издательство «Новое литературное обозрение», 1998 год
Пригов Д. А. Монады. Издательство «Новое литературное обозрение», 2017 год
Дмитрий Александрович Пригов. Явление стиха после его смерти. Издательство «Текст», 1995 год
Дмитрий А. Пригов. Ренат и Дракон. Издательство «Новое литературное обозрение», 2011 год
Дмитрий Пригов. Стихограммы. Париж: Журнал «А — Я», 1985 год
Дмитрий Александрович Пригов. Написанное с 1990 по 1994. Издательство «Новое литературное обозрение», 1998 год
Пригов Д. А. Монады. Издательство «Новое литературное обозрение», 2017 год
Но здесь он выстраивает позицию человека с чувством «неположенности». Вот Михалкову положено: условно говоря, он «работает в магазине», поэтому он «имеет права, заслужил». И его бесконечные публикации раздражения не вызывают. А тут чужой, который пытается сделать вид, что он чужой, не из этого мира, но с куском «незаконного мяса» вместо азу! Ты получил своё азу? Что-то протащил, «пробил» — и будь доволен! Я помню первый сборник Чухонцева, который назывался «Из трёх тетрадей». Понятно, что он писал всю жизнь, ему, уже сильно немолодому поэту, издали первую книжку, и он её назвал «Из трёх тетрадей». Были три книжки, и он из них что-то выбрал. Вот дали тебе, и ты со своим азу незаметно куда-то уходишь. А тут кто-то изображает из себя чужого в этом магазине, а на самом деле тянет гигантский кусок «незаконного мяса». Поэтому я и сказал, что это Евтушенко. Не знаю, имел ли Пригов здесь что-то в виду — вполне вероятно, что и нет. Меня интересовала первичность эмоций.
Такой Бурдьё на примере советского универмага. Спасибо огромное за этот разговор — из которого мне становится ясно, что перед нами такой классицист, который из возмущения становится романтиком, и это ужасно интересная метаморфоза.
Это хорошая метафора, да.