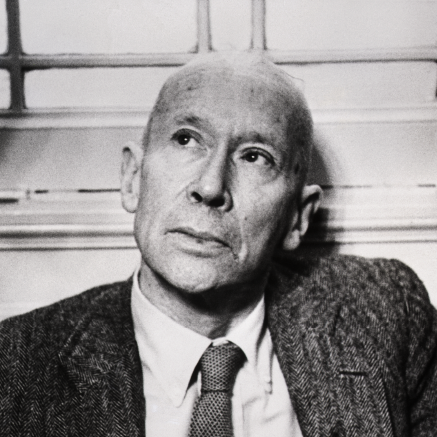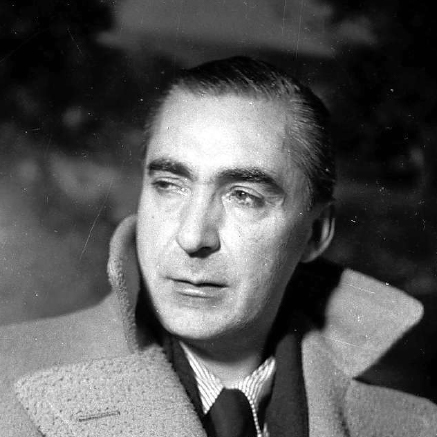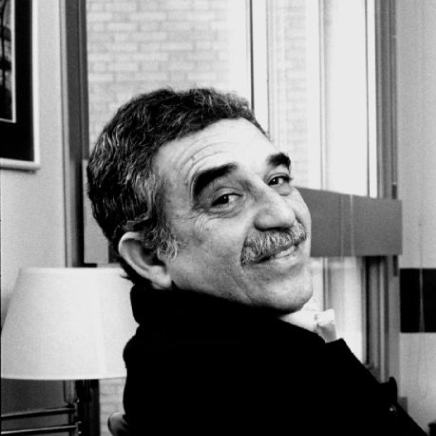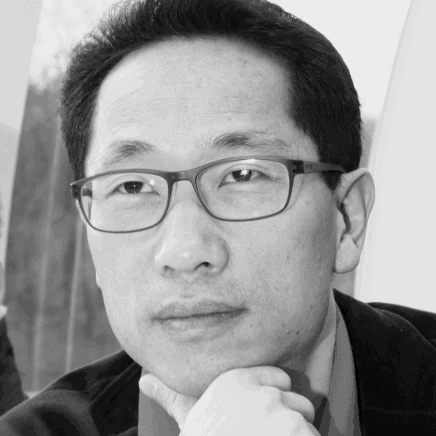Взгляд со стороны
О русской литературе — и об отдельных её произведениях — часто судят как об отображении русской реальности. Но взгляд на себя никогда не равен взгляду со стороны. «Полка» решила вспомнить тексты, которые написали о России зарубежные авторы: от апологетики до жесточайшей критики, от XVI до XXI века.
Этот материал был задуман и начат ещё в прошлом году, когда мы не могли себе представить, как вскорости изменится наша жизнь — и восприятие русской культуры в целом. Читая и перечитывая зарубежные тексты о России, мы выбирали самые показательные примеры — и осознавали, что эти тексты иностранцев показывают Россию как колониальную державу. Независимые ныне страны были частью Российской империи, а затем СССР — именно так чаще всего и воспринимали их приезжие литераторы, работая над своими «русскими дневниками». Поскольку материал поистине неисчерпаем, мы намеренно оставили за рамками материала свидетельства путешественников, дипломатов, купцов, сосредоточившись на наиболее примечательных, с нашей стороны, впечатлениях литераторов.
«До сих пор русские путешествуют со вниманием только за границею, а не по России. Россию они проезжают и не заботятся узнать места и их историю; а если и узнают что-нибудь случайно, то ленятся высказать это — ещё более — печатно. Мудрено ли, что иностранцы считают всю внутренность России дикою страною, редко населённою полулюдьми», — писал критик травелогов Дюма в 1858 году. Российскую империю, а вслед за тем Советский Союз составляли в разное время и в основном не по своей воле самые разные народы: земля наша, как известно, велика и обильна, но в своём разнообразии она не знает себя сама, и остранённый взгляд иностранца может оказаться полезным, хотя и горьким лекарством.
Среди ранних свидетельств о России — короткая глава в «Книге о разнообразии мира» Марко Поло («народ простодушный и очень красивый… добывают они много серебра… самый сильный холод в свете в Росии») и, конечно, знаменитые книги дипломатов — Сигизмунда фон Герберштейна Сигизмунд фон Герберштейн (1486–1566) — барон, дипломат Священной Римской империи, писатель и историк. Дважды посетил Русское государство как дипломат: в 1517 году выступал посредником в переговорах Москвы и Великого княжества Литовского, а в 1526 году участвовал в продлении перемирия между Россией и Литвой. Изучал язык и культуру Русского государства; в 1549 году издал на латыни дипломатический отчёт о России — «Записки о Московии». , Джерома Горсея Сэр Джером Горсей (1550–1626) — английский дипломат. В 1573–1591 годах жил в России по делам коммерческой и дипломатической службы. Был послом Ивана Грозного и Елизаветы I, доверенным лицом Бориса Годунова. Автор трёх сочинений о России — «Путешествия сэра Джерома Горсея», «Торжественная коронация Фёдора Ивановича» и «Трактат о втором и третьем посольствах сэра Джерома Горсея». , Джайлса Флетчера Джайлс Флетчер (1548–1611) — английский поэт и дипломат, дядя поэта Джона Флетчера. С 1584 года член английского парламента, ездил с дипломатическими поручениями в Шотландию, Германию, Нидерланды. В 1588 году послан с дипломатическим поручением в Москву, однако визит оказался неудачным. В 1591 году издал сочинение «О государстве Русском», которое пыталась уничтожить и цензурировать английская торговая компания. , Адама Олеария Адам Олеарий (настоящая фамилия — Ольшлегель, 1599–1671) — немецкий путешественник и учёный, владел русским, арабским и персидским языками. В 1633 году совершил путешествие через Русское царство в Персию вместе с посольством герцога Фридриха III и подробно изложил его ход в книге «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию». В «Описании» можно найти, например, городской план Москвы после пожара 1626 года — с появившимся Земляным валом и Скородомом. . Эти произведения незаменимы как исторические источники — и именно по ним, в первую очередь по «Запискам о Московии» Герберштейна, образованная публика в Европе узнавала о России — её нравах и обычаях, городах и природе, политическом устройстве, экономике. Тон этих книг разнится: если Флетчер настроен к России негативно (книгу пытались цензурировать даже в Англии, опасаясь испортить отношения с Москвой), то Горсей подчёркивает свою осведомлённость во внутренних делах Московского государства и близость к правящим кругам; Герберштейн стремится к почти энциклопедической точности, а Олеарий возмущается русскими развратом и тиранией — деспотизм великокняжеского самодержавия, впрочем, вызывает критику и у Герберштейна. Именно на его книгу ссылается Джордж Турбервилль — первый герой нашего списка.
Джордж Турбервилль. Эпитафии и сонеты (1568–1574)
22 июня 1568 года, в десятый год правления Елизаветы I Тюдор, когда Шекспир и Кристофер Марло были четырёхлетними детьми, в порту Харидж снялся с якоря корабль «Гарри». На его борту ко двору русского государя Иоанна IV отправлялось торговое посольство под руководством посла Её Величества Томаса Рандольфа. Секретарём посольства был поэт Джордж Турбервилль, годом ранее опубликовавший книгу собственных стихов и пару книг переводов, в том числе — «Героид» Овидия. Посольство, добивавшееся торговых привилегий для английских купцов, продлилось год и увенчалось успехом, секретарь же посольства за это время задумал, а возможно, уже и записал некоторые из сорока стихотворений, составивших впоследствии книгу «Эпитафии и сонеты». Историкам, изучающим образ России в записках иностранных путешественников, хорошо известны три из этих сорока — послания Турбервилля к друзьям, представляющие собой беспощадный по отношению к московитам стихотворный парафраз «Записок о московских делах» Сигизмунда фон Герберштейна Сигизмунд фон Герберштейн (1486–1566) — барон, дипломат Священной Римской империи, писатель и историк. Дважды посетил Русское государство как дипломат: в 1517 году выступал посредником в переговорах Москвы и Великого княжества Литовского, а в 1526 году участвовал в продлении перемирия между Россией и Литвой. Изучал язык и культуру Русского государства; в 1549 году издал на латыни дипломатический отчёт о России — «Записки о Московии». (1549). Эти стихи переведены на русский язык и часто трактуются как прямое высказывание поверхностного и предубеждённого английского сноба, которому надоело сидеть под надзором в дикой и холодной стране, чьего языка он не знает.
«Холод исключительный, люди грубы, князь полон коварства, / Государство столь переполнено монахами, монашками, священством на каждом углу, / Манеры столь близки к турецким, мужчины столь вероломны, / Женщины развращены, храмы забиты идолами, / Оскверняющими то, что должно быть свято, обычаи столь странны, / Что, если бы я описал всё это, боюсь, моё перо сломалось бы. / Короче, я скажу, что никогда не видел государя, который бы так правил... / Если будешь ты мудрым, как твоё искусство, и доверишься мне — / Живи тихо дома и не жаждай увидеть эти варварские берега... / Если ты хочешь лучше узнать русских, / Обратись к книге Сигизмунда, / которая скажет всю правду» («К Паркеру», пер. А. Севастьяновой). Эти послания впоследствии включил в свою знаменитую компиляцию английских травелогов Ричард Хаклюйт — в результате остальные «Эпитафии и сонеты» Турбервилля обычно не берутся в расчёт, а там есть на что посмотреть. Как выясняется, Турбервилль посвятил России не только три известных послания, но целиком всю эту книгу, смоделированную отчасти по образцу овидиевых «Скорбных элегий» (послания родным и знакомым из далёкого ледяного края), отчасти по образцу сонетов Петрарки к Лауре (постоянное обращение к неназванной даме сердца, которая должна непременно дождаться путешественника). Все первая половина «Эпитафий и сонетов» состоит из стихов, так или иначе отсылающих к русскому путешествию Турбервилля. При помощи отсылок к ужасной России, моделируемой как противоположность идеальному прекрасному пейзажу поэзии (locus amoenus, «милое местечко»), поэт выражает желание поскорее вернуться на горячо любимую родину, к родным, друзьям, а самое главное — к лирической возлюбленной, скрывающейся под именем Пандоры. Так устроено открывающее книгу «Прощание с матерью», в котором описываются тяготы трудного, но, увы, необходимого плавания по суровым морям. Таково cоставленное в форме приамели (перечисления препятствий, которые нужно преодолеть) послание к любезному другу, в котором упоминаются замёрзшие реки, жестокий холод, езда по почтовым дорогам на трясущихся клячах и ночлеги в ямах (т. е. на ямских станциях, yammes) вместо гостиниц. Таково стихотворение, в котором лирический герой и его возлюбленная выводятся в образах Леандра и Геро, между которыми раскинулся не Босфор, а каменеющие зимой Волга, Двина и Сухона. «Россия не способна расторгнуть уз истинной любви» («No Russie mought the true loue knot vnbinde») — такова основная идея этой поэтической книги, пожалуй впервые в истории современной европейской литературы специально разрабатывающей тему России. — Ф. К.
Джакомо Казанова. История моей жизни (1789–1794)
Легендарный авантюрист, путешественник, писатель и человек энциклопедических познаний, Джакомо Джироламо Казанова был не в ладах с законом и инквизицией. После побега из тюрьмы Пьомби во Дворце дожей, куда он был заключён на пятилетний срок за преступления против веры, он не мог оставаться в родной Венеции и объехал всю Европу, пытаясь продать правителям свою схему государственной лотереи, раз принёсшую ему успех в Париже. С этой же целью в 1765 году он и прибыл в Россию.
В Москве и Петербурге Казанова провёл девять месяцев. Его неизменные страсти — женщины, фехтование и карточные игры — доставили ему множество полезных знакомств и открыли перед ним двери в высший свет, сделав его ценным свидетелем российских дворцовых и политических интриг. В части своих мемуаров, посвящённой России, он даёт сочувственные портреты братьев Орловых, Нарышкина, Елагина, графа Панина, самой Екатерины II, с которой он четырежды беседовал, и княгини Дашковой, возглавившей Академию наук («Единственное, чего России не хватает, — это чтобы какая-нибудь великая женщина командовала войском», — замечает он с восхищением).
Из двух столиц Москва, «город преданий и воспоминаний, город царей, дочь Азии, весьма удивлённая, что находится в Европе», понравилась венецианцу больше Петербурга, о котором он отозвался скептически: «Говорят, нынче город возмужал, и заслуга сия принадлежит Екатерине Великой, но в 1765 году я застал его ещё в пору детства. Всё казалось мне нарочно построенными руинами. Мостили улицы, наперёд зная, что через полгода их придётся мостить вновь».
Казанова — любознательный путешественник, он не довольствуется охотой, карнавалами и оперой, а, к примеру, изучает изнутри русскую печь, чтобы подробно описать принцип её функционирования, и приходит в восхищение: «Только в России владеют искусством класть печи, как в Венеции — обустроить водоём или источник». Его описания странных русских нравов — неизменно остроумны, пусть и не всегда вполне правдоподобны, как, например, эпизод крещения детей в Неве, покрытой пятифутовым льдом: «Их крестят прямо в реке, окуная в проруби. Случилось в тот день, что поп, совершавший обряд, выпустил в воде ребёнка из рук. «Другой», — сказал он. Что значит: «дайте мне другого», но что особо меня восхитило, так это радость отца и матери утопшего младенца, который, столь счастливо умерев, конечно, не мог отправиться никуда, кроме как в рай».
Некоторые русские обычаи Казанова и сам перенимает: например, приглянувшуюся крестьянскую девушку покупает у её отца за сто рублей. Правда, обращается с ней венецианец не как с крепостной: наряжает, учит итальянскому языку и сажает за стол с гостями, а колотит только потому, что это, как он с удивлением понимает, единственный способ уверить её в своей любви.
Подобно многим европейским искателям счастья, Казанова надеялся поступить в России на государственную службу и написал с этой целью несколько трактатов о перспективах экономического развития страны, но не смог увлечь императрицу своими проектами и отбыл в Европу, сохранив тёплые воспоминания о холодной стране, где самая длинная ночь, по его заверению, «длится восемнадцать часов и три четверти». — В. Б.
После екатерининской эпохи, когда в гостях у Екатерины Великой побывал Дени Дидро (и не побывал, несмотря на многочисленные приглашения, Вольтер), а французский дипломат и историк Луи-Филипп де Сегюр проехал с императрицей по стране и оставил об этом обстоятельные записки, Россия перестаёт быть для европейских литераторов экзотическим направлением. В 1812-м, спасаясь от преследования пронаполеоновских швейцарских властей, в Петербург приезжает Жермена де Сталь — главная французская писательница своего времени; её очень тепло встречают, с ней стремятся познакомиться столичные интеллектуалы (среди них Карамзин и Батюшков). Мадам де Сталь встречается с Александром I и в своих воспоминаниях лестно отзывается об императоре и с благодарностью — о гостеприимстве русских в то время, когда наполеоновские войска идут на Москву.
Визит мадам де Сталь вспоминает Пушкин в письме к Вяземскому, комментируя приезд французского драматурга Жака-Франсуа Ансело на коронацию Николая I — этот пассаж стал знаменитым: «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда — при англичанах дурачим Василья Львовича Василий Львович Пушкин (1766–1830) — поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина. Писал анакреонтическую и эпикурейскую лирику, шуточную поэзию; был участником литературного кружка «Арзамас». Несмотря на высокое признание Василия Жуковского, в литературной традиции остался как второстепенный автор. ; пред M-me de Staël заставляем Милорадовича Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825) — граф, один из военачальников русской армии во время Отечественной войны 1812 года. В 1810 году назначен Киевским военным губернатором, в 1818 году стал генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Участвовал в восстании декабристов и был смертельно ранен 14 декабря 1825 года. отличаться в мазурке. Русский барин кричит: мальчик! забавляй Гекторку (датского кобеля). Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику. Всё это попадает в его журнал и печатается в Европе — это мерзко. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство». Надо заметить, что настроения Пушкина были такими не всегда — о чём свидетельствует тот же Вяземский: «Однажды Пушкин между приятелями сильно руссофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина; наконец, не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек». Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его. Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границею, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый».
Август Коцебу. Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его в Сибирь и возвращение оттуда
В конце апреля 1800 года веймарский сосед Гёте и Шиллера и даже превосходивший их тогда в популярности немецкий драматург, чьи комедии и мелодрамы уже много лет не покидали европейской сцены, был арестован на границе Российской империи, разлучён с женой, детьми и чемоданами и без предъявления обвинения увезён двумя грубыми должностными лицами в Сибирь.
Коцебу уже бывал в России — с 1781 по 1783 год он служил при дирекции санкт-петербургского немецкого театра, для которого написал несколько пьес. В Санкт-Петербурге он оставил детей от первого брака, которых и собирался навестить, но вместо этого очутился в Сибири (причиной ссылки стало подозрение в якобинстве).
Ссылка оказалась короткой, можно даже сказать — мгновенной, в июле он уже возвращался обратно по личному распоряжению Павла I, который прочитал драму «Лейб-кучер Петра III» в переводе Николая Краснопольского и пришёл в восторг. Коцебу, удивительно плодовитый автор (за свою карьеру он создал 211 пьес), не терял времени даром и за время путешествия в Курган и обратно написал великолепную историю своих бедствий. Главным её мотивом было недоумение — по уверению драматурга, это был не просто «достопамятный», как в привычном русском переводе, но, дословно, «самый странный» год в его жизни. Не зная, почему подвергся аресту, и толком не понимая, куда едет, за два с небольшим месяца Коцебу, судя по его эмоциональному повествованию, успел сполна насладиться ролью нового Овидия, а точнее, Сенеки, которого много раз упоминал в тексте: «Он был также изгнан из родины, был также невинен и томился восемь лет на пустынных скалах Корсики. Описание его положения, сделанное им самим, чрезвычайно напоминало мне моё собственное; он жалуется на суровый климат, на дикие нравы жителей, на грубый и чуждый для него язык; всё это совершенно подходило к моему положению. Но в особенности приводили меня в восторг сильные и энергические места в его сочинении, его прекрасные изречения по поводу страха смерти». Действительно ли автор, всю свою жизнь тесно связанный с Россией и её взбалмошными правителями, не понимал, что происходит, или просто предпочитал всё так изображать, следуя профессиональному инстинкту драматурга, — бог весть. Во всяком случае, он не бежал из России при первой возможности, был осыпан милостями извинившегося перед ним императора Павла и, как он сам пишет, плакал, узнав о его гибели. Его пьесы, хоть и плохо, игрались в Тобольске, нижегородские поклонники носили его на руках, одни только курганские обыватели сначала не поняли, кто он такой, пока не прочитали статью в московской газете. — Ф. К.
Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году
До издания своих путевых заметок в 1843 году Кюстин — человек, ставший невольной причиной появления слова «русофобия», — был умеренно известным автором романов о светской жизни и двух травелогов о западноевропейских странах. В общем, ничто не предвещало скандальной славы третьего травелога. При жизни автора книга переиздавалась пять раз и была переведена на несколько европейских языков. В России она была немедленно запрещена цензурой (хотя прочли её все интересующиеся российские современники от Вяземского до Тургенева), а первые русские переводы избранных фрагментов появились только в 1890-е; полностью же «Россия» в русском переводе вышла столетием позже. Между тем именно полный текст, в отличие от подборок самых жёстких характеристик российского государства и общества, позволяет понять как намерения автора, так и эволюцию его взглядов. Выходец из аристократической семьи, роялист Кюстин скептически относился к возвращению Бурбонов и тем более Июльской монархии, но продолжал видеть спасение цивилизации в просвещённом абсолютизме, воплощением которого для части французских интеллектуалов с екатерининских времён оставалась Россия. В реальности этого «царства порядка» и решил убедиться Кюстин своими глазами — впрочем, изначально в ней сомневаясь. 36 «писем другу», из которых состоит основная часть книги, представляют собой классический травелог, в значительной степени разбавленный самыми разными материалами: автобиографическими заметками, философско-политическими построениями, историческими экскурсами, обширными цитатами. Кюстин провел бóльшую часть своей недолгой поездки в столицах и не побывал восточнее Нижнего Новгорода, но и эта часть страны оказалась для него настоящей экзотикой — не всегда в плохом смысле. Автор замечает, к примеру, «миндалевидные, необыкновенно выразительные глаза» русских крестьянок, рассказывает множество «анекдотов» и попадает в удивительные истории — вроде встречи на Владимирском тракте со слоном, подаренным русскому императору персидским шахом. И всё же, едва перейдя русско-прусскую границу в Тильзите и глядя на здешние деревни, «пусть и бедные, но построенные вольно», Кюстин не может удержаться от сравнения: «В России несвобода ощущается не только в людях, но даже и в прямоугольно вытесанных камнях, в правильно выпиленных стропилах…»
Книга Кюстина привела Николая I в бешенство: он ругал себя за то, что «говорил с этим негодяем». Вскоре началась кампания контрпропаганды: по поручению правительства вышло несколько книг «против Кюстина». Их авторы, скрывшиеся за псевдонимами, доказывали, что Кюстин оклеветал Россию. Соиздатель проправительственной «Северной пчелы» Николай Греч по собственному почину собирал сведения о реакции на скандальную книгу в Европе. Он отсылал в Петербург депеши с увереньем о том, что никто «подлецу маркизу де Кюстину» не верит, и вызывался в соавторстве с литератором Ипполитом Оже написать антикюстиновский водевиль. «Как бы я желал быть агентом нашим и движетелем общего мнения в Германии и во Франции в нашу пользу!» — писал Греч, но не удержался и разболтал о своей затее. Информация попала в немецкую прессу, во франкфуртском журнале её с раздражённым удивлением прочитал начальник III отделения Бенкендорф — и вместо щедрого аванса Греч получил серьёзный нагоняй. — Д. Ш.
Александр Дюма. Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию (1859)
Александр Дюма-отец был страстным путешественником и объехал полмира: в сумме его путевые заметки составили почти 30 томов. Россия всегда вызывала у писателя живой интерес — ещё в 1840 году он опубликовал роман «Записки учителя фехтования», основанный на истории декабриста Ивана Анненкова и француженки Полины Гёбль, последовавшей за ним в сибирскую ссылку. Успех романа имел обратную сторону: Николай I запретил писателю въезд в пределы Российской империи. В 1858 году звёзды наконец сошлись: русский меценат граф Григорий Кушелев-Безбородко, встреченный им в Париже, предложил знаменитому писателю отправиться с ним в Петербург. К тому времени на престоле воцарился Александр II, препятствие исчезло, и Дюма, большой поклонник нового императора, с радостью ухватился за возможность «присутствовать при великой акции освобождения 45 миллионов крепостных».
В предисловии к путевым запискам писатель уверяет читателей своего еженедельника «Монте-Кристо», куда он отправлял корреспонденцию с дороги, что благодаря предварительной подготовке уже «знал Санкт-Петербург как собственный карман», и с подробностью путеводителя перечисляет российские достопримечательности, перемежая описания экскурсами в российскую историю. Достоевский ехидно заметил по этому поводу: «он еще в Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам — блеснуть, пленить и улететь».
В России Дюма неподдельно блистал везде, где бы ни оказался. Его путешествие заняло девять месяцев: прибыв на пароходе в Кронштадт, он осмотрел Санкт-Петербург, совершал поездки по Русскому Северу, на поезде отправился в Москву, посетил Троице-Сергиеву лавру, затем из Калязина по Волге отправился в Нижний Новгород, чтобы увидеть знаменитую ярмарку. Там его ждал сюрприз: на приёме у губернатора (амнистированного декабриста Александра Муравьёва) Дюма встретил графа и графиню Анненковых, героев собственного романа. Далее путь лежал в Казань, Саратов, Астрахань, а оттуда — на Кавказ (этому путешествию посвящена отдельная книга).
Историк Натан Эйдельман отмечал аккуратность и высокую осведомлённость Дюма в изображении России, но многие современники восприняли его книгу как клевету. Властям не по душе пришлось описание российской истории как череды цареубийств, публике — его насмешливый взгляд свысока: «Русские говорят, что, когда бог создал славянина, славянин обернулся к богу, протягивая к нему руку: «Ваше превосходительство, ― сказал, ― на чай, пожалуйста». Дюма возмущают русская кухня, дороги и собор Василия Блаженного — «грёза больного разума», он сокрушается, что русский народ не готов к свободе, но сам не прочь отстегать нагайкой станционного смотрителя, чтобы тот расторопнее добыл лошадей, и шутит, что нагайку следовало бы выдавать прямо вместе с подорожной.
Тут немало штампов («Русские больше всего на свете любят икру и цыганок»), его описание местных обычаев, — например, суицидального метода охоты на волков — породило миф, что именно Дюма принадлежит выражение «развесистая клюква» (в тени которой он якобы пил чай). Вероятно, кое-что Дюма присочинил для красного словца, но следует учитывать, что, не зная языка, он был вынужден судить о русской действительности из окна графской кареты или со слов местных экспатов. Его, к примеру, изумляет и трогает русское гостеприимство — в Казани полицмейстер на сутки задержал рейсовый пароход, чтобы знаменитый гость мог поохотиться на зайцев, а любую вещь, на которую он взглянет дважды, он немедленно получает в подарок. Он уверен, что каждый благовоспитанный человек в России не только говорит по-французски, но и не преминет предложить путешественнику свой дом и экипаж. В действительности всем этим Дюма был обязан не только своей литературной славе и широкой русской душе, но и попечению охранки: он находился под неусыпным надзором III отделения, куда многие гостеприимные хозяева отсылали отчёты (и гигантские счета) за содержание пылкого поклонника новых российских свобод. — В. Б.
Адольф Янушкевич. Письма из киргизских степей (1861)
Аристократ, патриот и интеллектуал, друг Адама Мицкевича и прототип одного из его персонажей, Янушкевич начал литературную карьеру как поэт, но после участия в Польском восстании 1830–1831 годов был сослан в Сибирь и вернулся домой лишь за год до смерти, больным, через три десятилетия. Впрочем, благодаря незаурядному таланту и образованию, а также деятельной поддержке оставшегося в Европе семейства Янушкевич никогда не выпадал из актуального контекста и всё равно вошёл в историю литературы. В начале своей сибирской эпопеи, живя в тихом деревенском Ишиме, он переводил исторические монографии, вдохновив Александра Одоевского на стихотворение о кипарисовой ветке с могилы Лауры, а Густава Зелинского Густав Зелинский (1809–1881) — польский поэт и писатель, участник Ноябрьского восстания против власти Российской империи. В 1834 году за снабжение польского партизанского отряда лишён всех прав и сослан в Сибирь на поселение в Ишиме. В сибирской ссылке общался с декабристом Александром Одоевским и поэтом Петром Ершовым, написал свои самые известные произведения, в том числе поэму о жизни казахских племён «Киргиз». — на романтические поэмы о степных киргизах. В конце, в горнозаводском Нижнем Тагиле, куда он переехал по приглашению графа Демидова, князя Сан-Донато, Янушкевич стал первым хранителем библиотеки, открытой на заводах сыном историографа Карамзина. Но центральной страницей сибирской эпопеи Янушкевича стала служба в Пограничном управлении сибирских киргизов в Омске. В сороковых годах XIX века империя осуществляла очередной этап экспансии в казахские (тогда называвшиеся киргизскими) степи, и ссыльный поляк оказался русским колониальным чиновником. «Тарбагатайские и Алатауские горы, брега Балхаша, обильные тиграми, Аягуза и Каркала... не раз трепетали при виде указа, написанного моей рукой», — не без иронии сообщал он в письме брату. Дневник Янушкевича, который он вёл в 1846 году во время командировки для переписи населения и скота в Аягузском и Каркаралинском округах, на востоке нынешнего Казахстана, — отличная этнографическая проза, созданная субалтерном Термин, означающий подчинённое положение угнетённых групп, лишённых политического голоса. Впервые использован итальянским философом Антонио Грамши в «Тюремных тетрадях», после чего стал широко распространён в критической и постколониальной теории. , который способен говорить на нескольких языках и путешествует среди субалтернов, языком метрополии толком не владеющих. «Скажи нам: он шутит или вправду такой к нам добрый. Это первый такой русский чиновник — не кричит, не бранится, не ставит возле своей юрты казаков с камчой, чтобы те нас отгоняли. Другие иначе поступали. Со времени, как мы родились, мы не видели, не слышали и не представляли себе такого русского чиновника». — Ф. К.
Теофиль Готье. Путешествие в Россию (1867)
Один из крупнейших французских романтиков, Готье был заядлым путешественником. Его «Путешествие в Россию» — образец ясного травелога на стыке реалистической и романтической прозы. «В путешествии у меня есть правило: если время не подгоняет слишком настойчиво, нужно остановиться на сильном впечатлении » 1 Пер. Н. В. Шапошниковой. , — пишет Готье. Романтическая выучка даёт себя знать и в красочных, многословных пейзажах, и в характерах. Вот, например, Готье любуется крестьянами в Нижнем Новгороде: «Какова же была их уверенность в себе! Какая отвага! Какое изящество! От быстрой езды рубахи развевались, как хламиды древних, ноги были напряжены, волосы — по ветру. Они походили на греческих героев, будто передо мною происходило соревнование на колесницах во время Олимпийских игр».
В «Путешествии» объединены впечатления от двух поездок, в 1858–1859 и 1861 годах («Зима в России» и «Лето в России»). Готье, таким образом, застал и описал дореформенную и пореформенную империю. Свои путевые заметки он отсылал во Францию, где они сразу публиковались в периодике. В отличие от Кюстина, Готье почти не вдаётся в российскую политику. Он лишь изредка упоминает недавнюю Крымскую войну, в которой Франция была противницей России, а о крестьянской реформе замечает, что её результаты пока внешне незаметны. Ему в первую очередь интересны достопримечательности и люди: это и крестьяне («Это был человек лет двадцати восьми или тридцати, с длинными, причёсанными на прямой пробор волосами, длинной светлой, слегка вьющейся бородой, какую живописцы любят изображать на портретах Христа. Ладный и стройный, он легко орудовал своим длинным веслом» — так Готье описывает первого встреченного им мужика), и торговцы, и знаменитости. К примеру, один из очерков посвящён венгерскому акварелисту Михаю Зичи, работавшему в России, и его коллегам — русским художникам, на похвалы которым Готье не скупится: впоследствии он посвятит отдельный цикл статей русскому искусству.
Писатель ходит по улицам столицы, многое отмечая (к примеру, на улицах очень мало женщин, что роднит Петербург со странами Востока); наслаждается морозной ездой, посещает санные бега на Неве, изучает коллекции Эрмитажа, попадает на императорский бал в Зимний дворец, бывает в театрах и делает визиты. «В комфортабельной русской квартире пользуются всеми достижениями английской и французской цивилизации. На первый взгляд можно подумать, что вы в самом деле находитесь в Вест-Энде или в предместье Сент-Оноре. Но очень скоро местный уклад жизни выдаёт себя множеством любопытных деталей. Прежде всего иконы в позолоченных серебряных окладах с прорезями на месте лиц и рук, отражая свет постоянно горящих перед ними лампад, предупреждают вас о том, что вы не в Париже и не в Лондоне, а в православной России, на святой Руси». В зимней Москве он пересказывает легенду об ослеплении зодчих храма Василия Блаженного («Этот Иван Грозный был в глубине души настоящим художником, страстным дилетантом. Такая жестокость в отношении к искусству мне менее отвратительна, чем равнодушие»), а в летней поездке пускается вниз по Волге: здесь главная цель, разумеется, знаменитая Нижегородская ярмарка, но по пути находится ещё много дел (например, послушать цыган в Рыбинске). «Можно ли жить, не повидав Нижнего Новгорода?» — вопрошает Готье, которого завораживает уже самое название русского города.
В России очерки Готье ценили — и выгодно сравнивали с текстами Дюма, который «нашумел, накричал, написал о нас чуть не целые тома, в которых исказил нашу историю, осмеял гостеприимство, наговорил на нас с три короба самых невероятных небылиц». — Л. О.
Льюис Кэрролл. Дневник путешествия в Россию (1867)
Неясно, почему 35-летний Кэрролл выбрал в 1867 году для своей первой и, как оказалось, единственной заграничной поездки именно Россию, с которой его ничего не связывало и о которой он, кажется, ничего не знал. Скорее всего, он просто воспользовался приглашением приятеля, оксфордского теолога и проповедника Генри Лиддона (не путать с филологом-классиком и деканом колледжа Крайст-Чёрч Генри Лидделлом, отцом девочки Алисы), который интересовался налаживанием связей между англиканской и православной церквями. Русский язык — как, впрочем, и всё русское — одновременно привлекает и пугает Кэрролла. Ещё в поезде из Кёнигсберга в Петербург он старательно записывает в дневник «пугающее» слово, услышанное от попутчика-англичанина, пятнадцать лет прожившего в Петербурге, — zashtsheeshtshayoushtsheekhsya. В Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде Кэрролл с Лиддоном ведут себя как заправские туристы, методично осматривая все основные достопримечательности. Кэрроллу всё ужасно нравится: в Петербурге он неизменно называет улицы, здания и статуи «прекрасными», а в Москве не может оторвать взгляда от «конических башен, которые вырастают друг из друга словно сложенный телескоп; выпуклых золочёных куполов, в которых отражаются, как в зеркале, искажённые картинки города; церквей, похожих снаружи на гроздья разноцветных кактусов». Кэрролл был религиозным человеком и даже англиканским диаконом, поэтому немалую часть дневника занимают описания православных служб и интерьеров церквей. В общем, небольшой, остроумный, написанный лёгким языком дневник (кстати, не предназначавшийся автором для публикации) интересен как взгляд совершенно постороннего, но наблюдательного человека. Тем любопытнее вдруг встретить у только что пересекшего границу Кэрролла как будто цитату из Кюстина: «Было приятно наблюдать, как местность становится всё более обитаемой и культурной по мере того, как мы всё дальше продвигались на территорию Пруссии: свирепый, грубоватый на вид русский солдат сменился более мягким и вежливым прусским; даже сами крестьяне, казалось, были на порядок выше, в них чувствовалось больше индивидуальности и независимости, — русский крестьянин, с его мягким, тонким, часто благородным лицом, более напоминает мне покорное животное, давно привыкшее молча сносить грубость и несправедливость, чем человека, способного и готового постоять за себя». — Д. Ш.
Рубеж веков
1880–1900-е — время, когда многочисленные переводы создают репутацию русской литературы в мире. Переводят не только классиков, но и современников: скажем, «Мелкий бес» Сологуба по-немецки появляется через два года после оригинального издания. В орбите поисков европейского модернизма Россия занимает важное место: германоязычные интеллектуалы рассуждают о «юном» народе, чьи свершения впереди; своё духовное становление связывает с Россией Райнер Мария Рильке. Влияние Льва Толстого — на рубеже XIX и XX веков константа в европейской литературе: в Ясной Поляне Толстой принимает многих иностранных гостей и ведёт огромную переписку. Русское искусство в эпоху поздней империи синхронно с мировым: в следующую, раннесоветскую эпоху, оно взорвётся левым авангардом, пока же писатели-путешественники попадают одновременно в «свой» и «иной» мир (особенно показательны в текстах этого времени сравнения Петербурга и Москвы) и часто говорят о России как гипнотическом впечатлении. Разумеется, в России оказываются и не по своей воле: повесть ссыльного Вацлава Серошевского о якутских прокажённых — поучительная параллель к чеховскому «Острову Сахалин».
Райнер Мария Рильке. Лу Саломе. Русский дневник (1900)
«Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в чёрной тирольской разлетайке. <...> …На людном перроне между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымышленности» — так начинается «Охранная грамота» Бориса Пастернака: десятилетним мальчиком в поезде он впервые встретил немецкого поэта Райнера Марию Рильке, с которым его впоследствии свяжет многолетняя творческая переписка. В то утро Рильке ехал в Ясную Поляну ко Льву Толстому. Сопровождала его Лу Андреас-Саломе — писательница и переводчица, выросшая в Петербурге и разделявшая романтические представления немецких интеллектуалов о России как о «юной» стране, чей расцвет ещё впереди.
Связь с Россией для Рильке была неотделима от любви к Лу. 21-летний поэт знакомится с Саломе в 1897-м, а в 1899-м, накануне Пасхи, вместе с ней и её мужем впервые приезжает в Россию. Рильке и Саломе совершили два путешествия с разницей в год. Они побывали в Москве («…моя Пасха, моя весна, мои колокола. Город моих самых далёких и глубоких припоминаний, непрерывно манящее возвращение: родина») и Петербурге («Здесь же всё намного понятнее, здесь более европейский, столичный стиль»), Киеве, Полтаве, Казани, Великом и Нижнем Новгороде, Ярославле. Исследовали русскую иконопись, живопись и архитектуру, познакомились со Львом Толстым, Ильёй Репиным и Леонидом Пастернаком и, наконец, совершили путешествие по Волге («Здесь же всё подлинно. Мне кажется, я увидел само Творение»). Точный маршрут этих поездок можно восстановить по «Русскому дневнику» Лу Саломе; Рильке в это время дневника не ведёт — но адресует многочисленные письма матери и друзьям.
Перед вторым приездом Рильке учит русский язык, переводит поэзию — от Лермонтова до Фофанова и чеховскую «Чайку», создаёт цикл о былинных героях и царях, позже ставший «Книгой о монашеской жизни» — первой частью «Часослова». Летом 1900-го Рильке и Саломе знакомятся с крестьянским поэтом Спиридоном Дрожжиным, живут в деревнях Кресто-Богородское и Низовка, путешествуют по Волге и вновь посещают Толстого — на этот раз в Ясной Поляне. «Толстой спросил у Райнера: «Чем вы занимаетесь?» — и когда тот ответил: «Пишу стихи», обрушил на него целый водопад резкостей, развенчивающих любую поэзию, — вспоминала Лу Саломе, — но у ворот фермы наше внимание было полностью отвлечено от этой гневной филиппики завораживающим спектаклем. Пришедший издалека странник, почти старик, подошёл к нам. Он не попросил милостыни, он просто пришёл поприветствовать писателя, наверное, так, как все те, кто с той же целью отправляется в паломничество: посетить храмы и святые места».
Встреча с Россией стала для Рильке таким паломничеством — откровением «новой красоты», мощным творческим импульсом и ощущением Бога, которому только предстоит «свершиться»: «Вот страна незавершённого Бога», «Россия граничит с Богом». Это мистическое ощущение, как пишет исследователь Константин Азадовский, приняло у Рильке форму эстетической программы. В наивном и тёмном русском народе Рильке находит образ «народа-художника», а в самой России — «страны будущего». По возвращении в Германию Рильке за неделю дописывает вторую часть «Часослова» — книгу о «тёмном» русском боге, иночестве и паломничестве; а также оставляет восемь стихотворений на русском языке:
<...>
Перед окном огромный день чужой
край города; какой-нибудь большой
лежит и ждёт. Думаю: это я?
Чего я жду? И где моя душа?
В последние годы жизни связь Рильке с Россией сохраняется в переписке с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. «...Россию он любил, как я Германию, всей непричастностью крови и свободной страстью духа...» — напишет Цветаева. Именно в Рильке она увидит образ, искомый им в России, образ певца-Орфея, богочеловека, пришедшего в мир поэтом: «Рильке — миф, начало нового мифа о Боге-потомке». — Е. П.
Вацлав Серошевский. Предел скорби (1900)
Польский подросток принял участие в социалистическом движении, оказался узником Варшавской цитадели, бросил в русского генерала оконную раму — и в результате попал в Якутию. За двенадцать лет своей ссылки Вацлав Серошевский превратился не только в основателя якутской этнографии, но и в беллетриста, главной темой которого стали истории подданных империи, вынужденных налаживать нелёгкую совместную жизнь среди болот, рек и озёр самого студёного района земного шара.
Польским писателем Серошевский стал не сразу. В начале карьеры, создавая рассказы и этнографические монографии, он писал по-русски, поскольку его аудиторией были только русские, а его польский настолько обеднел, что приходилось штудировать учебник. Затем он начал писать повести на двух языках, переводя самого себя с польского на русский. В конце концов, воротясь из ссылки к большой национальной аудитории, он окончательно перешёл на родной язык. «Предел скорби», созданный в двуязычный период, знаменовал собой также момент перехода от натуралистического очерка в манере русской реалистической классики к европейскому модернизму. Его герои, якутские прокажённые, запертые обществом и суровой природой в гнилом бараке, — не столько этнографические типы, сколько тревожные символы. Поражающие поначалу жуткие подробности вроде язв и отваливающихся пальцев вдруг пропадают, и на их месте возникают обычные человеческие потребности — необходимость решать хозяйственные вопросы, заботиться о детях, любить и быть любимыми, бороться за лидерство в коллективе. Да, проказа — страшное ограничительное условие их жизни, но убивает, как выясняется, не она, а «нормальные» человеческие страсти. Именно они лежат в основании описанной в повести трагедии — и вот уже на дымящихся развалинах лепрозория роется якутский медведь, как символ всепобеждающей природы. Примерно в это же время очень похожим образом раскрыл ту же тему Джек Лондон — его «Кулау-прокажённый» (1907) настолько же страстен, человеческий дух сильнее какой-то там проказы. — Ф. К.
Кнут Гамсун. В сказочной стране: переживания и мечты во время путешествия по Кавказу (1903)
Модный норвежский писатель, в последний год XIX столетия получивший государственную стипендию для путешествия на восток, вошёл в историю литературы как один из отцов модернистской прозы. Характерные приметы его стиля (повествование от первого лица; постоянная, иногда со склонностью к мистике, интроспекция, выполненные в минималистической манере, но полные экзистенциальной правды образы эротичных женщин, неприятных стариков и умирающих от голода странных интеллигентов; любовь к деталям, вроде фигурки Пана на пороховнице или железного кольца на мизинце протагониста) были интродуцированы в русскую литературу Даниилом Хармсом. Когда последний писал, повествуя о неудачной прогулке на лодке: «Мне казалось, что я похож на норвежца и от моей фигуры в сером жилете и развевающемся галстуке должны излучаться свежесть и здоровье», то прямо отсылал к ранним вещам будущего нобелиата.
Русско-кавказская книга Гамсуна — тоже торжество приёма. Травелоги этого времени обычно оперировали тремя планами, восходящими к тогдашней фототехнике: типы (портреты), достопримечательности и пейзажи. Взяв эту стандартную схему, Гамсун выбрасывает из неё средний план — достопримечательности, заменяя их вещами карманного размера. В книге почти нет описаний памятников или зданий, всё строится на контрасте между серебряными часами попутчика, лежащими на вагонном столике, и кинематографической огромностью заоконных видов. Санкт-Петербург — это лампадка перед иконой на гремящем паровозным железом Николаевском вокзале, Москва — пуговица, оторвавшаяся в процессе посещения бесконечных церквей, дворцов и музеев, Воронеж — досадное стеариновое пятно на одежде, обнаруженное, когда поезд проносится среди полей подсолнечника, Армавир — груши и виноград на фоне мерцающей на горизонте фата-морганы Кавказского хребта и так далее. Кульминации этот метод достигает при переправе через Терек, когда путешественник выбирается из своей повозки и, к изумлению возницы, бросается поливать чахлые придорожные одуванчики, сияющие на тёмном фоне ущелья. Благодаря такой нестандартной «операторской работе» выигрывают, конечно, типы. Попав в динамическое пространство между общим и крупным планом, портные, персы, горцы, молокане, купцы, офицеры, княжеские дочери наполняются жизнью, быстро машут руками, улыбаются и семенят, как люди на первых кинолентах. — Ф. К.
Блез Сандрар. Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской (1913)
Один из крупнейших французских поэтов XX века в юности оказался на заработках в России — и восемь лет спустя описал этот опыт в поэме (по-русски мы читаем её в переводе и с комментариями Михаила Яснова). Сандрар отсылает здесь к своему дебюту, также связанному с Россией, — «Легенде о Новгороде» — и рассказывает о приезде в Москву, где, несмотря на множество диковинного, ему не хватало некоего экзистенциального опыта:
Я был в Москве меня поило пламя
Но не хватало мне вокзалов и церквей которых я поил глазами.
В Сибири шла война гремели пушки
Холера голод холод и чума
Стремнина мутного Амура уносила падаль
1905 год — Русско-японская война и первая русская революция — предоставлял такого опыта больше чем достаточно. 16-летний герой поэмы садится в поезд на пару с торговцем дешёвой бижутерией и едет в Харбин — а по пути грезит о возлюбленной Жанне Французской (парижская проститутка названа здесь именем канонизированной королевы), вспоминает Париж, от которого его уносит всё дальше, и весь мир, который он хотел бы, но не может подарить Жанне. Рефрен поэмы — «Блез, далеко ли до Монмартра?», и последние строки как раз посвящены возвращению в кабаре «Проворный кролик». «Проза» вышла в 1913-м с иллюстрациями Сони Делоне, став одной из самых знаменитых в мире «книг художника». Процитируем под конец Яснова: «Да кому какое дело, если я всех вас заставил в это поверить?» — ответил он однажды на вопрос, действительно ли ему удалось проехать по Транссибирской магистрали, или же он попросту выдумал это путешествие». — Л. О.
Алистер Кроули. Главный аттракцион на ярмарке (1913)
В конце лета 1913 года Российскую империю, доживавшую старые добрые последние денёчки, посетила с гастролями британская музыкальная группа The Ragged Ragtime Girls, состоявшая из семи танцующих скрипачек. Три из этих девиц, страшно боявшихся ехать в Россию, были алкоголичками, четыре — нимфоманками, две — жеманны до истерики, и хотя все они приобрели револьверы, ни одна из них не умела ими пользоваться. Дамам пришлось взять с собой в качестве телохранителя оккультиста, наркомана, садомазохиста, альпиниста и поэта Алистера Кроули, со слов которого мы и знаем теперь об этой истории. За шесть недель пребывания в России этот знаменитый монстр, порождённый прекрасной эпохой, сочинил множество стихов, например гимн, посвящённый Пану, и оду о Москве, называвшуюся «Град божий», но особенно интересным вышел рифмованный травелог, посвящённый поездке в Нижний Новгород. Кроули, оказывается, с детства мечтал побывать на Макарьевской ярмарке. С одной стороны, эта поэма, явно сочинённая с оглядкой на «Паломничество Чайльд-Гарольда», — честное сюжетное повествование о путешествии белого образованного аристократического изгоя на Восток, в конце которого, при слиянии Волги и Оки, его ждала загадочная татарская красавица, не умевшая даже говорить по-французски. С другой, конечно, времена на дворе стояли уже далеко не байроновские, и у Кроули получился не столько автопортрет в стиле Чайльд-Гарольда, сколько лубочное изображение ярмарочного иностранца, пожирающего what they call ikra, and we caviar. Не столько Байрон, сколько госпожа Курдюкова Юмористическая поэма Ивана Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже», пародирующая путевые заметки Николая Карамзина. Была популярна в дворянских петербургских салонах в 1840-х годах. По сюжету поэмы тамбовская помещица мадам Курдюкова, чей язык похож на смесь французского с нижегородским, путешествует по Германии, Италии и Швейцарии — дан л’этранже (т. е. потранжирить). за границею. — Ф. К.
Советское время: двадцатые и тридцатые
Октябрьская революция быстро обретает своего зарубежного хроникёра: «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида — выдающийся образец репортажной прозы. Рид — журналист и один из основателей американской Компартии — отправился в Россию по командировке социалистического журнала The Masses, стал свидетелем и, в общем-то, участником революции; свою книгу он завершил в 1920 году, незадолго до смерти; короткое предисловие к ней написал Ленин. К советскому эксперименту проявляют живой интерес интеллектуалы Европы и Америки: уже в 1921-м в занятое Красной армией Закавказье приезжает Джон Дос Пассос; в 1928-м он вновь приедет в Советский Союз. На прозу Дос Пассоса оказывает влияние советский авангард, в первую очередь кинематографический; в свою очередь, стиль американского писателя влияет на советских авторов. Коммунистические достижения не смогут заслонить от Дос Пассоса репрессивную сущность советского государства: активность ГПУ, убийство Кирова, Первый московский процесс и Гражданская война в Испании заставят его отречься от поддержки СССР.
1930-е — время, когда зарубежных писателей в советской России стараются привечать, создавая своего рода фронт «друзей СССР». В 1930-м приезжает Рабиндранат Тагор, оставивший восхищённые «Письма о России», в 1931-м — Бернард Шоу; после поездки он будет отрицать существование голода в СССР («нигде я так сытно не обедал, как в Советском Союзе») и восхвалять Сталина. В 1934-м третье путешествие в Россию совершает Герберт Уэллс, в 1935-м по приглашению Горького — Ромен Роллан; отдельный драматический сюжет — визиты Андре Жида и Лиона Фейхтвангера: первый оказался критиком, второй — апологетом советской реальности. В программу таких визитов нередко входила встреча со Сталиным.
Пожалуй, ещё интереснее истории писателей, попавших в СССР без особого приглашения: среди них важнейшие американские поэты своего времени — Э. Э. Каммингс и лидер «гарлемского ренессанса» Лэнгстон Хьюз. Последний приехал в составе киногруппы и задержался на несколько месяцев в советской Средней Азии, задумав книгу о «цветных Советского Союза» (книга так и не была закончена). В 1933-м в Советском Союзе оказался Иэн Флеминг: агентство Reuters направило его освещать процесс шестерых британских инженеров, обвинённых во «вредительстве». Флеминг пытался договориться об интервью со Сталиным, но получил отказ за личной подписью генсека. Советские впечатления пригодятся Флемингу — и как разведчику, и как автору бондианы.
Ярослав Гашек. Бугульминские рассказы (1921)
Рядовой 91-го Богемского пехотного полка, попавший в плен к русским, достигший в своих скитаниях далёкого Иркутска и вернувшийся домой с русской женой, прожил в России пять лет из отпущенных ему сорока — и оказался одним из пассионариев, превративших Российскую империю в Страну Советов. Вероятно, и его Швейк на одну восьмую русский. Об этом свидетельствуют, например, восемь рассказов, напоминающие эскизы к эпосу о бравом солдате и повествующие о приключениях чешского коммуниста, который в конце 1918-го был назначен комендантом в неизвестную Бугульму. Как и «Швейк», бугульминский цикл Гашека представляет собой эпос, только маленький, напоминающий восьмибитную карикатурную «Энеиду» с поволжским сеттингом. Божество в лице Реввоенсовета вместе с мандатом и командировочным удостоверением вручает протагонисту войско из двенадцати чувашей и велит занять Бугульму. Добираясь до Бугульмы, воцаряясь в ней и одолевая при помощи острого слова и бюрократической смекалки разных противников (вроде конкурирующих красных командиров, наступающих
каппелевцев
Каппелевцы — военнослужащие Народной армии КОМУЧа, впоследствии — белой армии Восточного фронта в период Гражданской войны, под руководством генерал-лейтенанта русской армии Владимира Оскаровича Каппеля.
и реввоентрибунала), Гашек пытается выжить на этом посту и одновременно спасти побольше жизней. Эпос — не трагедия, другой жанр, однако к концу повествования из двенадцати чувашей-помощников, число которых сокращается по ходу действия, как негритята в знаменитой считалке, в распоряжении коменданта Бугульмы остаётся, кажется, только один.
Для наглядности — маршрут писателя: русский плен (24 сентября 1915 года, Хорупаны, под Дубно) — военнопленный (сентябрь 1915 — июнь 1916, лагерь Дарница под Киевом; лагерь Тоцкое в Самарской губернии) — военнослужащий в составе Чехословацкого легиона (июнь 1916 — февраль 1918, Киев) — выход из легиона, вступление в коммунистическую партию (март — апрель 1918, Москва) — руководитель группы чехословацких коммунистов-агитаторов (апрель — июнь 1918, Самара) — скитания в Поволжье после мятежа Чехословацкого корпуса (июнь — сентябрь 1918, Самара — Симбирск) — с октября 1918 сотрудник политотдела 5-й армии Восточного фронта, в этом качестве: Бугульма (заместитель коменданта, декабрь 1918) — Уфа (декабрь 1918 — март 1919) — Белебей (март — апрель 1919) — Уфа (апрель — август 1919) — Челябинск (август — ноябрь 1919) — Омск (декабрь 1919) — Красноярск (февраль — июнь 1920) — Иркутск (июнь — октябрь 1920) — Москва (ноябрь 1920) — Прага (декабрь 1920) — Ф. К.
Герберт Уэллс. Россия во мгле (1920)
В 1920 году Уэллс был знаменитым — в том числе в России — автором научно-фантастических и «философских» романов, а также только что изданного и очень популярного «Очерка истории», в котором на 700 страницах излагалась вся история человечества. Политика интересовала Уэллса больше теоретически: по убеждениям он был «эволюционным коллективистом» и возлагал большие надежды на будущее мировое правительство, которое должно избавить человечество от войн. К Марксу он относился с презрением (особенно злила Уэллса его «широкая, торжественная, густая, скучная борода» — потому что «своим бессмысленным изобилием она чрезвычайно похожа на «Капитал»). В Россию Уэллс уже приезжал однажды, в 1914 году, и когда Лев Каменев в 1920 году пригласил его увидеть своими глазами Россию новую, Уэллс тут же «ухватился за это предложение» и через пару недель приехал в Петроград с сыном. «Россия во мгле» — это семь небольших очерков, опубликованных в газете Sunday Express, а затем изданных под одной обложкой. Эту книгу сложно назвать травелогом — Уэллс в основном описывает свои сильные впечатления от царящей в России разрухи и нищеты: «Я не уверен, что слова «все магазины закрыты» дадут западному читателю какое-либо представление о том, как выглядят улицы в России». Однако основная мысль, которую пытается донести Уэллс до читателя, состоит в том, что в «колоссальном непоправимом крахе» виноваты вовсе не большевики, а «больной организм» рухнувшей Российской империи и мировая война. Большевики же — идеология которых Уэллсу отвратительна — оказались единственной силой, которая пытается что-то со всем этим сделать, поскольку они честны и организованны. Правда, большевики (включая Ленина, который совершенно очаровал Уэллса при личной встрече) не понимают, что именно надо делать, поэтому Запад должен им помочь. Эта аргументация Уэллса взбесила очень многих, от Черчилля до русских эмигрантов. Впрочем, именно эмигрант Николай Трубецкой, лингвист и основоположник евразийства, первым издал в Софии русский перевод «России во мгле» уже в 1921 году, снабдив его язвительным предисловием. А через год тот же перевод (без указания переводчика) был издан в Харькове, с не менее язвительным предисловием украинского большевика Равича-Черкасского. И всё же Уэллс, несмотря на всю его «буржуазную близорукость», с тех пор считался другом Советского Союза, а в 1934 году даже удостоился встречи со Сталиным, который тоже произвёл на него впечатление «искреннего, прямолинейного и честного человека». — Д. Ш.
Теодор Драйзер. Русский дневник (1927)
«Русский дневник» Теодора Драйзера начинается 3 октября 1927 года, когда писатель получил от советского правительства приглашение на неделю приехать в Москву вместе с полутора тысячами деятелей культуры со всего света. Западным интеллектуалам намеревались показать выставку достижений Советов за первые 10 лет их существования. Однако писатель сразу решил, что поедет, только если ему оплатят гораздо более продолжительное путешествие по всей стране, которое позволит ему «увидеть настоящую, неофициальную Россию — скажем, районы бедствий в Поволжье», и получил согласие.
В Москве Драйзер познакомился с американкой Рут Эпперсон Кеннел, уже пять лет прожившей в СССР и знавшей русский язык: она стала не только его секретарём, гидом и возлюбленной, но и отчасти соавтором его дневника, который по распоряжению Драйзера часто вела сама с его слов, нередко вставляя туда свои комментарии. Перерабатывая дневник для публикации, Драйзер включил туда её текст.
Драйзер, в молодости мечтавший о социалистической утопии, хотел своими глазами увидеть, как она воплощается на практике. Об этом он спорит в России со множеством политиков и деятелей культуры — Николаем Бухариным, Сергеем Эйзенштейном, Маяковским, Станиславским, Карлом Радеком, а также с любым встречным, своим секретарём и — по проницательному замечанию Кеннел — самим собой.
К американскому писателю приставлена целая свита, которую он справедливо считает шпионами, его таскают на экскурсии в музеи, образцовые детские сады, на фабрики и даже в тюрьму (где заключённые играют в баскетбол, смотрят кино, а раз в году выходят на каникулы!). Но отказываются отвести в обычный русский ресторан, к чему он стремится (отнюдь не из гастрономических соображений — вся русская еда кажется Драйзеру неудобоваримой и компенсируется только водкой, которую он добавляет и в чай, и в десерт). «Иностранцы должны видеть только грандиозное — и показуху на грандиозном» — и всё же в своём путешествии Драйзер пользовался несомненно большей свободой, чем многие иностранцы до и после него. Он побывал в Москве, Нижнем Новгороде, Ленинграде, затем отправился в тур по Украине, Грузии, Северному Кавказу, Черноморскому побережью, посетил санатории для крестьян в Кисловодске и шахты на Донбассе, при каждом удобном случае изучая жизнь обычных советских граждан и беседуя с ними.
Чем дальше, тем больше он фиксирует противоречия. Его радует отмена ненавистной ему религии — но партия избавилась «от одной железной догматической веры только для того, чтобы возвести на её месте другую — и, по-моему, более опасную». Он одобряет жилищную программу, но возмущён санитарными условиями и скученностью в коммуналках и общежитиях, напоминающих ему американские трущобы, находящиеся «под самым тираническим гнётом капитализма». Забота о правах рабочих сочетается с низкой производительностью и технической отсталостью. Он отмечает уровень женской эмансипации и прекрасное состояние детских садов и ужасается количеству беспризорников. Наибольший же протест вызывает в нём идея коллективизма: «Новый порядок здесь будет означать торжество убожества из-за отсутствия классовых различий и снижения уровня жизни для того, чтобы охватить всех», — говорит он Кенннел. Не всегда понятно, когда Драйзер искренне восхищён, а когда иронизирует (скорее всего, и то и другое вместе): «Ленин. Я полагаю, что это новый всемирный герой. Если мир перейдёт к диктатуре пролетариата, а я предполагаю, что он перейдёт, то его величию предела не будет. <…> Только в Москве так много его бюстов и статуй, что они, похоже, составляют заметное дополнение к населению. Примерно так: население Москвы — без статуй Ленина — 2 000 000, со статуями Ленина — 3 000 000».
В конечном счёте выводы американского писателя оказались неутешительны: советская программа могла бы дать человечеству реальный шанс на улучшение, но она слишком прекрасна, чтобы слабое и эгоистичное человечество могло её воплотить. А своё мнение о советской практике он сформулировал так: «Если я когда-нибудь выберусь живым из этой страны, то буду бежать через границу так быстро, как только смогу, и, оглядываясь на бегу назад, буду кричать: «Да вы всего лишь проклятые большевики!» — В. Б.
Вальтер Беньямин. Московский дневник (1926–1927)
Больше всего «Московский дневник» похож, как ни странно, на киносценарий. Правда, снять по нему фильм получилось бы только лет через тридцать: в своих описаниях «кадров» морозной Москвы на излёте НЭПа автор уделяет огромное внимание цвету, рисуя перед читателем этот странный мегаполис, где пока тихо, мало автомобилей (зато имеющиеся «выбрасывают сноп света на сотни метров вперёд по улицам»), где массы людей, петляя и глядя себе под ноги, передвигаются по узким обледенелым тротуарам, а неустроенные окраины неожиданно напоминают автору портовые пригороды Неаполя. Как и положено в кино, на этом экзотическом фоне разворачиваются довольно драматичные события, которые читатель видит глазами протагониста, то есть самого Вальтера Беньямина, немецкого философа, публициста, искусствоведа и «левого индивидуалиста».
Основной причиной его приезда в Москву была давняя любовь к «латышской большевичке», актрисе Анне Лацис (Асе). Ася переехала в Москву из Берлина меньше чем за год до Беньямина вместе с Бернхардом Райхом, их общим приятелем, видным деятелем германского пролетарского театра 1920-х. К моменту приезда Беньямина Ася, пережившая тяжёлое нервное расстройство, лежит в «санатории» в центре Москвы, и Райх становится проводником автора в оживлённом и довольно безумном московском культурном мире. Они чуть ли не каждый день посещают театральные премьеры, театрально-политические диспуты и встречи с разнообразными деятелями от Мейерхольда до
Мате Залки
Мате Залка (настоящее имя — Бела Франкль; в СССР — Матвей Михайлович Залка; 1896–1937) — венгерский писатель и революционер, примкнувший к коммунистическому движению. Участник Гражданской войны в России 1918–1921 годов и Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов. Автор антивоенной новеллы «Янош-солдат», рассказов «Ходя», «Кавалерийский рейд», «Яблоки» и других.
. Беньямин очень признателен Райху, но есть одна проблема: Райх практически не даёт ему возможности побыть с Асей наедине, а когда это всё же происходит, та обычно отвергает все его попытки романтического сближения. В промежутках между театрами и визитами в санаторий Беньямин, чувствующий себя ужасно одиноким (сказывается в том числе незнание языка), гуляет по промозглому городу, посещает музеи и приобретает огромное количество традиционных русских игрушек для своей коллекции. Чтобы как-то окупить двухмесячную поездку, Беньямин заранее получил заказ на очерк о Москве от философа Мартина Бубера и его журнала Die Kreatur. 1 февраля 1927 года Беньямин прощается с Асей, отношения с которой запутались ещё больше, и уезжает в Берлин. Вскоре выходит его очерк «Москва» (он тоже издавался по-русски), в котором многие визуальные описания и уличные сценки повторяют «Московский дневник» дословно, — но это уже совсем не кино. — Д. Ш.
Курцио Малапарте. Бал в Кремле (1929)
Один из самых авантюрных, эксцентричных и противоречивых итальянских писателей, сторонник фашизма и коммунизма, военный корреспондент Курцио Малапарте приехал в Москву в 1929 году с коротким визитом к «марксистской аристократии». Спустя почти двадцать лет он начнёт работу над псевдодокументальным романом «Бал в Кремле», который так и не будет окончен. Воспоминания о встречах с высшим советским обществом, «кланом алчных, безжалостных и разнузданных коммунистических бояр», — Анатолием Луначарским и «мадам Луначарской» — актрисой Натальей Розенель, сотрудниками Наркоминдел Дмитрием Флоринским и Львом Караханом, балериной Мариной Семёновой, Владимиром Маяковским и Михаилом Булгаковым — превращаются в фантасмагорическую хронику разложения красной революционной знати.
Надеясь найти в советском обществе «суровый, непримиримый образчик марксистского пуританства», Малапарте с сарказмом и отвращением описывает торжественные приёмы и интриги, сплетни о сексуальных предпочтения и вычурные наряды. «Снобизм был тайной пружиной всех светских событий этого наимогущественнейшего и уже разложившегося общества. Вчера ещё они жили в нищете, под подозрением, в шатком положении подпольщиков и эмигрантов, а потом вдруг стали спать в царских постелях, восседать в золочёных креслах высших чиновников царской России, играть ту же роль, которую ещё вчера играла имперская знать. Каждый из представителей новой знати старался подражать западным манерам: дамы — парижским, господа — лондонским, меньшинство — берлинским или нью-йоркским».
Кулуарные разговоры и карнавальные сцены сменяются в романе разговорами о Боге — одной из центральных для Малапарте тем. Не случайно черновое название текста — «Бог-убийца»: события происходят в пасхальные дни, но «колокола молчат», Булгаков говорит о своём страхе Христа («нынче в России Христос — никчёмный персонаж», «Христос нас ненавидит», — негромко повторял Булгаков»), Владимир Маяковский совершает самоубийство, а Малапарте осматривает его комнату («убил ли он себя оттого, что не верил в Бога, или оттого, что верил в Него»). Часть событий романа нарочито гиперболизированная, часть — провокативно-вымышленная (так, Маяковский умер через год после приезда Малапарте в Москву), так что полагаться на «Бал в Кремле» как на документ эпохи не стоит. Русский перевод романа снабжён подробным комментарием; среди прочего там разбирается версия, что сцена бала у Сатаны в «Мастере и Маргарите» родилась у Булгакова после общения с Курцио Малапарте. — Е. П.
Э. Э. Каммингс. ЭЙМИ
Американец Эдвард Эстлин Каммингс (подписывавшийся обычно инициалами и со строчных букв — э. э. каммингс) — один из крупнейших англоязычных поэтов XX века. Пообщавшись в Париже с такими представителями русского авангарда, как Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Каммингс в 1931 году решил съездить в СССР; его, в частности, интересовала фигура Маяковского, покончившего с собой годом ранее («товарища самоубийцы»): в Москве американский поэт встретился с четой Бриков. Результатом этого длинного путешествия стал сатирический травелог «ЭЙМИ, или Я Есмь», одна из самых недобрых книг в жанре «иностранец описывает Россию».
Проблемы начались ещё на стадии планирования: советские чиновники не понимали, почему американец посещает Россию по собственному почину, не как представитель какой-то организации. Каммингс едет в Россию как частное лицо, «сам как таковой» (пусть и не вполне инкогнито: о его размещении хлопочет Илья Эренбург). И именно из этой позиции поэт судит об увиденном: особенно язвительно он пишет о бравурных демонстрациях коллективизма, которые контрастируют с довольно убогим бытом и с вечной хмуростью русских (последний стереотип не опровергнут и сегодня).
Роман «ЭЙМИ», описывающий 36-дневное пребывание Каммингса в Москве, Киеве и Одессе, написан бурлескно-игровым языком — школа Джойса и Стайн. Каммингс (или «Кем-мин-кз» — так, на слух автора, называют его русские) здесь «коньячествует» с собеседниками, которые грустно расхваливают ему советский строй и проводят занятия по политграмоте («Россия в 1931 году — это промежуточный этап — с характерными несусветными контрастами — между классами и бесклассовостью. Если товарищ Кем-мин-кз вернётся через 10 лет, он не увидит никаких классов»), пьёт «parody-koffyeh» и отмечает страх собеседников при упоминании «valyootah» и «Гей-Пей-Уу» (здесь русский читатель вспомнит трагикомические валютные приключения героев «Мастера и Маргариты»). Всё это напоминает ему путешествие Данте по Аду, и своих провожатых Каммингс так и кличет Вергилиями. Кульминацией становится, соответственно, посещение мавзолея Ленина:
мы входим в Место, я поднимаю голову: над (всеми) нами блестящая плита, отражающая вверх (то (движутнедвижущихся) варищей) ногами. И тут; какая-то. Яма: тут: да-тсс!
под призмоформенной прозрачностью
лежит (tovarich-по-пояс
бессильно затворённая правая-клешня
левый-плавник незатворён обессиленно
и маленькая-не-напряжённая головка и лицо-без-морщин и рыжеватая бородка).
<…>
и тут (вдыхая воздух, Воздух, ВОЗДУХ) решаю, что этот какой глупый нецарь царства НЕ-, этот какой банальный идол, царствующий в гнилье, равняется всего лишь ещё одному уроку морали. Наверное, эта банальность не освобождает, не изобретает, поскольку эта глупость поучает: поскольку наверное эта ничтожность не должна будоражить и не должна убаюкивать и просто должна говорить —
Я смертен. Вы — тоже. Привет
«ЭЙМИ» до сих пор полностью не переведён на русский, — впрочем, есть превосходное издание его фрагментов вместе со статьями и фотографиями, подготовленное Андреем Россомахиным; перевод сделали Владимир Фещенко и Эмили Райт. Поездка в СССР произвела на Каммингса сильное впечатление: по её следам он написал ещё несколько злых стихотворений и юмористический рассказ «Мылигия», где товарищ Сталин в ужасе встречается с товарищем Санта-Клаусом, под личиной которого скрывается обнищавший Карл Маркс. — Л. О.
Памела Трэверс. Московская экскурсия (1932)
Как ни странно, литературным дебютом прославленной создательницы «Мэри Поппинс» был сборник очерков, написанных под впечатлением от путешествия в Советскую Россию. Книга вышла в 1934 году и осталась практически незамеченной. Переводчица русского издания Ольга Мяэотс пишет, что в 1932 году Трэверс была никому не известна, потому даже в СССР её едкие наблюдения не удостоились особого внимания. Россия, какой её описывает журналистка, разительно отличается от восторженных или хотя бы доброжелательных картин, нарисованных Барбюсом и Фейхтвангером, что, вероятно, должно было насторожить советскую цензуру постфактум.
Трэверс не питает иллюзий по поводу жизни в Советском Союзе, несмотря на все усилия принимающей стороны показать, что «жить стало веселее». Она подлинно воспроизводит ощущение абсурда, возникающее от столкновения с российской бюрократией: «Я смутилась и почувствовала себя виноватой. Что я сделала не так? Как человек, сказавший нечаянно непристойность, я поспешила сменить тему — явно слишком болезненную». С собой в Россию писательница везла затычки для ванн (дефицит) и лимоны (тоже дефицит) — так ей посоветовали знакомые. Сцена с фруктами представляет собой довольно едкую сатиру. Писатель-функционер, за минуту до этого произносивший пафосные речи, меняется в лице: «Лимоны? Вы сказали «лимоны»? — Мой собеседник переменился в лице. Выражение транса и фанатичный энтузиазм исчезли… — Пойдёмте. Мы поедем в моём автомобиле. Не будем терять ни минуты».
Трэверс путешествует в составе туристической группы, посещает Ленинград («Скорее бы уже уехать из Ленинграда! Несмотря на красоту, здесь какая-то мертвящая атмосфера») и Москву («Нас не пропускают в Кремль. Там сидят ОНИ — вот в чём причина»; «Дом культуры, Дом рабочих, Дом спорта, Дом проституток»), вместо отменённой поездки в Нижний Новгород («Оказывается, корабли сломались!» «Мне всё же интересно: а видел ли кто-нибудь Нижний?»). Вместо последнего пункта делегацию отправили в «колхоз». Но впечатления Трэверс от посещения театра и балета радикально отличаются от прочих: именно здесь, с её точки зрения, она видит нечто настоящее, без фальши: «Казалось, что некий безымянный волшебный сок течёт сквозь нас… театр — единственное место, где они становятся свободными людьми». — М. Н.
Андре Жид. Возвращение из СССР (1936)
Живой классик французской литературы Андре Жид, как и многие европейские интеллектуалы (например, Анри Барбюс, написавший целую панегирическую книгу о Сталине), в 1920-е и 1930-е относился к СССР с симпатией, даже восхищением — и СССР отвечал ему взаимностью. В 1936 году Жид наконец решил, по приглашению Михаила Кольцова Михаил Ефимович Кольцов (1898–1940) — писатель, журналист. Брат художника-карикатуриста Бориса Ефимова. Служил в Красной армии, работал в Наркомате иностранных дел. Был инициатором возобновления журнала «Огонёк», создателем журналов «За рубежом», «За рулём», «Советское фото», «Чудак». С 1934 по 1938 год был главным редактором журнала «Крокодил». Участвовал в событиях Гражданской войны в Испании. В 1938 году был арестован за «антисоветскую деятельность» и затем расстрелян. , посетить Советский Союз сам — и после поездки опубликовал «Возвращение из СССР», в котором констатировал крах иллюзий. Несмотря на то что «люди в СССР замечательные», Советский Союз оказался страной, где подавляется всякое инакомыслие, победа над бедностью — показная, культ Сталина и газета «Правда» охраняют население от сомнений и критики (вполне показательный эпизод — когда писатель решает отправить Сталину телеграмму с благодарностью за приём, телеграфисты отказываются принимать текст, если в нём Сталину не будет дан какой-нибудь пышный эпитет), а иностранцам преподносят ярмарку бесконечных достижений (не веря, например, что во Франции тоже есть метрополитен и даже школы). Одно из «светлых пятен» в книге — рассказ о посещении смертельно больного Николая Островского, автора «Как закалялась сталь» («Вот наглядное доказательство того, что святых рождает не только религия»); свою книгу Жид посвятил Эжену Даби — писателю из той же французской делегации, умершему во время поездки. Французские коллеги Жида (не говоря уж о советских) его книгу раскритиковали — после чего писатель выпустил к ней гораздо более резкое дополнение, в котором констатировал: левые интеллектуалы закрывают глаза на репрессии, «прореживающие» народ, на страх и доносительство, на фактическое бесправие рабочих и колхозников. После всего этого Андре Жида не публиковали в СССР до перестройки. — Л. О.
Лион Фейхтвангер. Москва. 1937
Впечатление от книги Андре Жида было тяжёлым: когда в 1937-м в СССР пригласили Лиона Фейхтвангера — немецкого писателя с еврейскими корнями, известного антинацистскими взглядами, — появилась такая неполиткорректная эпиграмма: «Стоит Фейхтвангер у дверей / С невозмутимым видом. / Боимся, как бы сей еврей / Не оказался Жидом» (эпиграмма существует во многих вариациях, авторство тоже приписывают многим). Фейхтвангер, впрочем, оправдал ожидания. Знакомый с книгой своего французского коллеги, он также заявлял, что стремится к беспристрастности, — но и единодушие советских граждан в поклонении Сталину, и вообще всеобщее довольство (несмотря на ощутимый дефицит товаров и «квартирный вопрос») сумел себе объяснить. Фейхтвангер воспевает трудолюбие советских рабочих, счастье колхозников и охоту советских людей к чтению. В отличие от Андре Жида, он встречается со Сталиным и даже задаёт ему вопрос о «преувеличенном поклонении» — с чем Сталин легко соглашается, после чего излагает Фейхтвангеру «официальную линию» о троцкистах и зиновьевцах. Ключевой момент книги Фейхтвангера — его свидетельства со Второго московского процесса. Может быть, его фигуранты (ни один из которых не остался в живых) оговорили себя под давлением, пытками? «Когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если всё это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда», — пишет Фейхтвангер, поверивший в спектакль сталинского правосудия. В СССР по распоряжению Сталина весь тираж книги отпечатали за одни сутки. Через несколько лет её, как и другие произведения Фейхтвангера, будут изымать из библиотек. — Л. О.
Джон Стейнбек. Русский дневник. 1947
В 1947 году американский писатель, автор романа «Гроздья гнева» Джон Стейнбек и военный фотокорреспондент Роберт Капа приехали в Советский Союз по заданию газеты New York Herald Tribune. Журналистские заметки о 40-дневном путешествии и жизни в России, задуманные Стейнбеком («Я наконец-то понял, что я мог бы сделать в России. <...> Путевой дневник. Такого никто не делал»), разрослись до полноценного травелога, который в 1948 году вышел под названием «Русский дневник». Тандем журналиста и фотографа предопределил метод работы — фотографический: Стейнбек и Капа намеревались зафиксировать только то, что увидят сами, без «редакционных комментариев» и обобщений, но с вниманием к частной жизни и деталям.
За два месяца Стейнбек и Капа побывали в Москве, Киеве, Сталинграде, Тбилиси, Батуми, двух колхозах и совхозе. Маршрут для аккредитованных иностранцев был составлен сотрудниками ВОКСа Всесоюзное общество культурной связи с заграницей — советская общественная организация, основанная в 1925 году. Отвечала за участие СССР в международных выставках, презентацию советского искусства на зарубежных фестивалях, а также организацию поездок в СССР зарубежных делегаций и наоборот. , за их перемещениями следило МГБ — и хотя авторам удалось увидеть только то, что им было показано (например, застолья с длинными тостами, водкой и чёрной икрой в период послевоенного голода), а на таможне у Капы изъяли часть фотографий, в «Русском дневнике» соединились штрихи эпохи и портреты простых людей. Украинских женщин, собирающих огурцы в колхозе Шевченко («Среди них была одна с обаятельным лицом и широкой улыбкой; её-то Капа и выбрал для портрета. Она была очень остроумна. Она сказала: «Я не только очень работящая, я уже дважды вдова, и многие мужчины теперь просто боятся меня», ― и она потрясла огурцом перед объективом фотоаппарата Капы»), московских спекулянтов и грузинских писателей («Эти потрясающие грузины превзошли все наши ожидания. Они могли переесть, перепить, перетанцевать и перепеть кого угодно»), сошедшей с ума девочки в развалинах Сталинграда («Чуть дальше за этой помойкой был небольшой холмик, похожий на вход в норку суслика. Каждое раннее утро из этой норы выползала девочка. <...> Она сидела на корточках и подъедала арбузные корки, обсасывала кости из чужих супов»). — Е. П.
Оттепель и застой
Хрущёвское время ознаменовалось кратковременным потеплением отношений с Западом: знаковым событием стал Международный фестиваль молодёжи и студентов, во время которого в Советский Союз приехало множество иностранцев — в том числе прибившийся к колумбийской делегации Габриэль Гарсиа Маркес. Некоторые визиты были обставлены почти с государственной помпой — и при этом не обходились без анекдотов. Джон Стейнбек в 1963-м приехал в СССР в третий раз; в романе Василия Аксёнова «В поисках грустного бэби» приводится достоверная вроде бы байка о том, как Стейнбек решил в порядке этнографического исследования «сообразить на троих» со случайными собутыльниками, а затем объяснял милиционеру, что он «амэр-р-р-рикански пис-с-сатэл» — на что милиционер отреагировал так: «Добро пожаловать, товарищ Хемингуэй!»
Сам Хемингуэй, — без сомнения, самый популярный американский писатель в Советском Союзе — сюда не добрался, зато в 1962-м приезжал крупнейший американский поэт: Роберт Фрост. У него в том числе состоялась встреча с Анной Ахматовой — из которой ничего путного не вышло: по воспоминаниям Анатолия Наймана, «Ахматова… рассказывала, что Фрост спросил у неё, какую выгоду можно получать, изготовляя из комаровских сосен карандаши. Она приняла предложенный тон и ответила так же «делово»: «У нас за дерево, поваленное в дачной местности, штраф пятьсот рублей». Бродский рассказывал, что Ахматова говорила о Фросте: «Это дедушка, превратившийся в бабушку!»; Лидия Чуковская записала такие ахматовские слова: «Сидели мы в уютных креслах друг против друга, два старика. Я думала: когда его принимали куда-нибудь — меня откуда-нибудь исключали; когда его награждали — меня шельмовали, а результат один: оба мы кандидаты на Нобелевскую премию. Вот материал для философских размышлений». Встреча, кстати, проходила на даче академика Алексеева, потому что крошечную «будку», в которой в Комарове жила Ахматова, организаторы сочли слишком непредставительной. Ну а Нобелевскую премию в 1962-м получил как раз Джон Стейнбек.
Габриэль Гарсиа Маркес. СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы! (1957)
Габриэль Гарсия Маркес бывал в СССР не раз: впервые он попал туда в 1957 году, ещё не знаменитым писателем, а молодым журналистом, освещавшим Фестиваль молодёжи и студентов. «Мекка социализма» (в те времена на Западе так часто называли СССР) сразу ошеломила нас», — писал Маркес, однако первым, что поразило его в атомной сверхдержаве, было её сходство с привычной ему колумбийской деревней.
На каждом шагу он отмечает контраст между «кондитерской» имперской архитектурой и скудными витринами советских магазинов, между 17 видами электронных счётных машин, выставленными в Политехническом музее, и деревянными счётами кассиров и банковских служащих, которые он сперва принимает за какую-то популярную игру. Зато разруха в клозетах и в головах сосуществует в полной гармонии: так, общественная уборная в московском пригороде представляет собой «длинное деревянное возвышение с полдюжиной отверстий, над которыми, присев на корточки, полдюжины солидных уважаемых граждан делали то, что им нужно, оживлённо переговариваясь, — такой коллективизм не предусматривала никакая доктрина».
Во всё время своей поездки Маркес неустанно пытается выяснить, в какой мере советские граждане индоктринированы, в какой — запуганы, а в какой искренне преданы режиму. Парадной стороне Советского Союза, «волнующей и колоссальной стихии», он противопоставляет царящий в нём мелочный бюрократизм, бытовую неустроенность, комплекс неполноценности перед Соединёнными Штатами. Он пишет: «Исчезновение классов — впечатляющая очевидность: все одинаковы, все в старой и плохо сшитой одежде и дурной обуви», и в то же время отмечает образцовую дисциплину и порядок в фестивальной толпе на стадионе, исключительную точность советских поездов, искреннее радушие и щедрость людей. Советский Союз для него не просто экзотичен — приоткрывшийся на время фестиваля железный занавес даёт возможность сравнить его политическое устройство с другими известными писателю диктатурами.
Не в пример многим своим предшественникам — иностранцам, путешествующим по России, — Маркес понимает, что за две недели, не зная русского языка, подлинной жизни он не увидит, справедливо подозревает, что окружающие его люди явно «проинструктированы», а гостям фестиваля показывают потёмкинские деревни. Всего год назад прошёл XX съезд, осудивший культ личности, и Маркес пытается выяснить у окружающих их подлинное отношение к деятельности Сталина, но они отвечают ему цитатами из речи Хрущёва. Откровенность проявила только одна случайная попутчица, старая театральная художница: «Она уверила, что, если бы Сталин был жив, уже вспыхнула бы третья мировая война. Говорила об ужасающих преступлениях, о подтасованных процессах, о массовых репрессиях. Уверяла, что Сталин — самый кровавый, зловещий и тщеславный персонаж в истории России. Мне никогда не приходилось слышать столь страшных историй, рассказываемых с таким жаром». Это свидетельство, однако, не перевешивает в его глазах отрепетированные речи прочих советских граждан, и он приходит к выводу, что «народ не пострадал от режима Сталина — репрессии обрушились на руководящие сферы».
Несмотря на то что в устройстве советской экономической и бюрократической системы Маркес не может найти «ни одной детали, не описанной ранее в книгах Кафки», пытаясь обобщить результаты советского эксперимента, он его в конечном счёте одобряет, утверждая, что в Советском Союзе нет ни голодных, ни безработных, и диалектически разрешая противоречие:
«Тому, кто видел скудные витрины московских магазинов, трудно поверить, что русские имеют атомное оружие. Но именно витрины и подтверждают правдивость этого факта: советское ядерное оружие, космические ракеты, механизированное сельское хозяйство, электростанции и титанические усилия по превращению пустынь в сельскохозяйственные угодья — всё это результат того, что на протяжении 40 лет советские люди носили скверные ботинки и плохо сшитую одежду и почти полвека переносили суровые лишения».
Несмотря на этот одобрительный вывод, очерк Маркеса, опубликованный в 1959 году в венесуэльском журнале «Кромос», оказался слишком нелицеприятен для советской аудитории и ждал русской публикации 30 лет. — В. Б.
Энтони Бёрджесс. Клюква для медведей (1963)
Сленг подонков из романа «Заводной апельсин» частично основан на русском языке — все эти droog, korova и тому подобное. Но это не единственный «русский» текст Бёрджесса: его следующий роман «Клюква для медведей» целиком посвящён злоключениям английского контрабандиста в Ленинграде. Написан он был по следам бёрджессовской поездки в Советский Союз — которая состоялась летом 1961-го. В 1963-м, когда Бёрджесс писал «Клюкву», отношения СССР с Западом сильно испортились. Только что Карибский кризис поставил мир на грань катастрофы. Западную прессу сотрясал шпионский скандал: была раскрыта оперировавшая много лет «кембриджская пятёрка» шпионов — один из которых, никак не связанный с писателем, носил фамилию Бёрджесс: он вскользь упомянут в романе. В то же время разгоралась космическая гонка — и в романе фигурирует плакат, на котором «сжимают друг друга в объятиях, как близнецы, Хрущёв и малютка Юрий», а одна из русских героинь гордится, что в Советском Союзе есть «медицинское обслуживание, бесплатный хлеб и покорение космоса». Бёрджесс после своей поездки склонялся к тому, что между Россией и Западом нет принципиальной разницы («Государство, да и всё тут. Государство есть только одно», — изрекает один из героев его романа). Как ехидно замечает современный исследователь, советская цензура внесла коррективы в это прекраснодушие, запретив бёрджессовские романы.
Накануне путешествия писатель боялся, что приедет в страну «каменно-стального оруэлловского кошмара». Неожиданно для себя он попал в город, где, с одной стороны, всё дышало культурой (причём не только официальной), а с другой, — в город бедных рабочих: запах Ленинграда очень напомнил ему запах Манчестера. Это же чувство испытывает герой «Клюквы для медведей» Пол Хасси: «Россией нас пугали. А на самом деле Россия — это просто обутые в скверные туфли и сандалии люди с цветами, которые ждут и курят на причале». Хасси под видом туриста везёт с собой чемодан платьев, которые собирается выгодно продать — разумеется, нелегально. Для прикрытия у него с собой издание «Доктора Живаго», на которое таможенники не обращают никакого внимания — зато конфискуют пасту для закрепления зубных протезов; впрочем, аферу с платьями быстро раскрывают сотрудники более компетентных органов (одного из них зовут Карамзин). Словом, поездка оборачивается булгаковско-кафкианским абсурдом с драками, репрессиями, любовными коллизиями и достоевскими рыданиями — в описании всего этого Бёрджесс обнаруживает изрядную наблюдательность и въедливость. Многие детали здесь, при всём сарказме автора, абсолютно достоверны — от ассортимента сигарет в ларьке до интереса русских к Хемингуэю (который покончил с собой, как раз когда Бёрджесс был в Ленинграде, и ленинградцы засыпали иностранца вопросами, самоубийство это или всё-таки убийство; впоследствии Бёрджесс напишет биографию Хемингуэя). Другие подробности, — например, история композитора Опискина, передавшего на Запад партитуру запрещённой оперы, — легко узнаваемые пародии. Ну а всяческие oguryets и za vashe zdorovye выглядят, разумеется, естественней, чем в «Апельсине». — Л. О.
Одри Лорд. Заметки о России (1976)
В 1976 году Одри Лорд — поэтесса, писательница, чёрная активистка, феминистка и лесбиянка — посетила Советский Союз в качестве приглашённой американской наблюдательницы на Конференцию писателей стран Азии и Африки, проспонсированную Союзом писателей. Свои впечатления от страны Лорд аккуратно записывала в дневник. Самые первые впечатления от перелёта: «Россияне в целом настолько же недружелюбны друг к другу, как и американцы, и примерно так же не стремятся помогать». В целом взгляд Лорд довольно доброжелателен: больше всего её поразило отсутствие каких-либо расистских высказываний в её адрес. При этом писательница очень чётко схватывает специфику жизни в России. Как феминистку Лорд, конечно, очень интересует гендерная политика в СССР: «…Большинство женщин здесь, молодых и старых, похоже, скорбит по отсутствию мужчин. Однако при этом они избавились от многих традиционных ролевых игр в отношениях с мужчинами. Почти все, кого я встречала, потеряли кого-то в «Великой Отечественной войне». Как туристка Лорд замечает, пожалуй, всё, что обычно принято замечать в подобных коротких поездках: величественность зданий, холодный климат, потрёпанную сантехнику в гостиничном номере, тот факт, что многие русские учили английский в школе, но не говорят на нём, а главное — выражения лиц москвичей. После нескольких дней в Москве Лорд отправилась вместе с делегацией в Узбекистан. Сначала её поразил контраст между сдержанностью москвичей и открытостью ташкентцев, но затем она замечает, что часть существующего «напряжения между русскими Севера и узбеками является национальной, а часть — расовой». — М. Н.
После крушения Советского Союза поездки в Россию становятся гораздо проще — и в 1990-х зарубежные писатели и журналисты получают возможность увидеть «новую Россию». В 1997 году журналист The Washington Post (а впоследствии — главный редактор The New Yorker) Дэвид Ремник выпускает продолжение своей книги «Могила Ленина», большого и сложного свидетельства о распаде Советского Союза, — называется эта книга-постскриптум «Воскресение», и сегодня трудно не увидеть в этом названии горькую иронию. С 1990-х по 2010-е заметен обратный процесс — работа российских писателей, получивших возможность выехать за рубеж, участвовать в книжных ярмарках и обращаться к новой аудитории — более широкой по сравнению с аудиторией тамиздата: читателям становятся известны имена Пелевина и Сорокина, Шишкина и Улицкой, Водолазкина и Ганиевой. Французские знаменитости — Мишель Уэльбек и Фредерик Бегбедер — приезжают в Москву, становятся героями светской хроники и один раз даже устраивают вдвоём дебаты на «Винзаводе» — и если Уэльбек какого-то внушительного текста о России не оставит, то Бегбедер выпустит роман «Идеаль», продолжение «99 франков», построенное как откровенно мерзкая исповедь скаута в модельном бизнесе: растлитель юных фотомоделей оказывается здесь автором сентенций вроде «В ваших краях мужчины умирают в пятьдесят лет, а их вдовы продают котят у входа в метро». «Идеаль» — и сатира на глобально-гламурный мир, в который встраивалась Россия 2000-х, и образец колониальной оптики; примечательно, что главный герой — кроме прочего, читатель Пастернака и Трифонова. Русская литература вообще привычный шлюз для гостей: о своих «романах с Россией» — обычно опосредованных русской литературой — рассказывают в статьях и книгах такие авторы, как Карл Уве Кнаусгор и Элиф Батуман; американская поэтесса и феминистская активистка Айлин Майлз, выступая в Москве, ехидно интересуется, первая ли она женщина в ряду классиков, читавших стихи на этой площадке. Премия «Ясная Поляна» в 2015 году объявляет «иностранную» номинацию, в которой побеждают, например, Орхан Памук и Джулиан Барнс: пафос этого начинания — попытка утвердить паритет русской литературы с «зарубежной». В то же время возможен и другой «шлюз» — грубо говоря, краеведческий. Замечательную серию книг под общим названием «Северный дневник» — о Заонежье, Соловецких островах, Петрозаводске — публикует польский писатель Мариуш Вильк. Всей этой конфигурации, сложности, открытости, по-видимому, пришёл конец — но она была.
Михаил Фомичёв/РИА «Новости»
Джонатан Литтелл. Чечня. Год третий (2010-е)
Автор «Благоволительниц» побывал в Чечне впервые в составе делегации Amnesty International ещё во время войны. Писатель вновь посетил республику в 2009 году. «Год третий» — это третий год правления Кадырова-младшего. Основываясь на собственных впечатлениях от увиденного, на разговорах с журналистами и сотрудниками «Мемориала», Литтелл пишет непарадный портрет республики. Кадыров-отец, а затем и его сын взяли курс на «нормализацию», которая выражалась в том, что насилие оставалось не менее жестоким, но «более избирательным». «Чечня — это что-то вроде 1937 или 1938 года, — записывает Литтелл слова одного из своих собеседников. — …Люди получают жильё, там парки, в которых играют дети, там спектакли, концерты, всё выглядит нормально, а… по ночам исчезают люди». «Нормализация» проявляется не в возвращении к спокойной и обыденной жизни, а в том, что привычным становится состояние войны и постоянный страх быть схваченным на улице. Угрозы и убийства правозащитников, постоянное запугивание врагом («ушедшими в лес»), причём непонятно, что хуже — попасть в плен к последним или что тебя обвинят в пособничестве. Литтелл мало сосредотачивается на вещах, которые обычно интересуют путешественников: природа, быт и т. д. Вернее, интересует, но исключительно сквозь призму установившейся в Чечне власти. Её ключевая характеристика — коррумпированность: «Рамзан — протеже Путина, и его власть основана прежде всего на личной протекции… а это лучшая «крыша»… в стране, полностью структурированной крышеванием». Время от времени журналист-Литтелл уступает место Литтеллу-художнику. Так, вместо эпилога он описывает свой сон, который вполне мог бы видеть его герой Максимилиан Ауэ: в нём чеченский глава бросал в пустоту связанных людей. Пожалуй, эта ёмкая и простая метафора как нельзя лучше резюмирует написанное им ранее. — М. Н.
Катарина Венцль. Московский дневник (1994–1997)
В 1994 году переводчица Катарина Венцль, окончив университет, приехала в Москву писать диссертацию в Институте русского языка им. Виноградова. Она не только занималась наукой, но и проводила время в компании художественного и литературного андеграунда, общалась с представителями московской концептуальной сцены. Конечно, само название выбрано не случайно: оно отсылает к путешествию другого немца, в другую эпоху. Образ Москвы, который рисует мемуаристка, поражает своей цельностью: преобладающий цвет — серый, грязь, нищета, зловоние в продуктовых. Но при этом взгляд Венцль выхватывает и прекрасное: «В Царицыне идёт проливной дождь. Возле железнодорожных рельсов раскинулся рынок автозапчастей и турецкой одежды. Мороженое в стаканчике, прогулка по свежей зелени. Запах ромашки. Перед руинами дворца поп освящает блестящую серебром машину, со всех сторон основательно окропляя её водой». Среди героев книги Сорокин, Пригов, Кулик, Кибиров и другие. Московская жизнь 90-х у Венцль — это сплав, в котором есть место и празднику (иногда поражает педантичность, с которой мемуаристка записывает, кто, сколько и какой именно водки выпил), и будням. — М. Н.
Джончхан Сон. Транссибирские ночи (2016)
Идея книги стихов южнокорейского поэта, который, как гласит предисловие, в последнее время живёт в Москве и много путешествует по России, восходит к нескольким традициям, типичным для изображения России — или, точнее, Сибири. Во-первых, это модерная идея поэмы, посвящённой изображению страны из окна поезда: смотрите, например, авангардную «Прозу о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» Блеза Сандрара (1913), эмигрантскую «Голубую подкову» Константина Бальмонта (1935) или оттепельную книжку Александра Твардовского «За далью — даль» (1950–60-е), один из главных текстов, отражающих поворот хрущёвского времени к освоению восточных районов СССР. При всех различиях между этими поэмами, все они вдохновлены передовой инфраструктурой, которая приносит тёплого, дышащего и мыслящего современного поэта к подножию дремучей первозданной тайги, жаждущей обновления. Во-вторых, это классическая традиция книжных «ночей» — восходящая, с одной стороны, к античным сборникам филологических мелочей, плодам ночной учёности («Аттические ночи» римского писателя Авла Геллия, II в. н. э.), с другой — к текстам Нового времени, посвящённым этнографическим прогулкам наблюдателя по ночному городу («Парижские ночи» Ретифа де ла Бретонна, 1788–1794).
Джончхан Сон — не первый литератор, который соединил эти традиции при описании Сибири. Известны, например, книга французского прозаика Жозефа Кесселя «Сибирские ночи» (1928), в которой от лица военного французского лётчика описывается страшноватый Владивосток 1919 года, или мемуарное стихотворение польско-американского поэта Германа Таубе «Тюменские ночи» (2002), повествующее о голодных тревожных буднях советского лагеря для военнопленных, в котором он провёл четыре года. Книжка корейского поэта, ошеломлённого тёмными расстояниями российского хинтерланда Местность или район, прилегающие к промышленному торговому центру, порту. Или же территория, прилегающая к уже завоёванной колонии, на которую заявляет свои претензии колониальная держава. , — повод поразмышлять о том, как соотносятся респектабельная поэтическая традиция и раздражающие стереотипы популярного восприятия. «Снежный апокалипсис», «Сияние снежной равнины», «Опилки для растопки печи в сельской библиотеке», «В поисках утраченной шинели», «Тоска по последнему поезду», такие заглавия. «В неописуемых просторах Сибири / становишься снежинкой готовой растаять / тающим гудком поезда уходящего вдаль» (пер. А. Золотарёвой). — Ф. К.
DEA PICTURE LIBRARY/Getty Images
Вив Гроскоп. Саморазвитие по Толстому (2017)
«Саморазвитие по Толстому» посвящено прежде всего русской литературе — от Пушкина до Солженицына, — но эта книга вряд ли была бы написана, если бы Вив Гроскоп, тогда 19-летняя английская студентка, не решила в 1992 году отправиться в Петербург «подтянуть русский». Изначально заняться русским её побудили две вещи: эмоциональное потрясение от «Анны Карениной» и зацикленность на идее о том, что её необычная для английской глубинки фамилия имеет русское происхождение (через много лет выяснилось, что одним из её предков был польский еврей). С этой первой поездки начались сложные и страстные отношения Гроскоп с Россией и её культурой. «Саморазвитие» — в каком-то смысле пародия на популярный жанр «селф-хелпа»: из каждого произведения Гроскоп пытается извлечь для себя — и для читателя — жизненные уроки. Да и вообще русская классика оказывается для автора неразрывно связанной с жизнью, особенно с жизнью в России. Отсылки к её собственному опыту (который был довольно длительным: вскоре после первой поездки она вернулась в Петербург и провела в России ещё почти год) рассыпаны по всей книге, но есть несколько особенно впечатляющих больших «интермедий». В начале главы о «Докторе Живаго» Гроскоп рассказывает о своей поездке на похороны петербургской подруги, покончившей с собой (в частности, Гроскоп просят взять с собой хорошую косметику, которой ни у кого больше нет, — как выясняется, для покойной). Окрестности морга напоминают пейзаж из «Доктора Живаго» («пустоши на много миль вокруг — и ничего больше»), и позже этот эпизод, похоже, прочно связывается в сознании Гроскоп с открывающей сценой романа. А тургеневский «Месяц в деревне» оказывается очень кстати, когда Гроскоп едет на каникулы в Одессу и тяжело переживает неразделённую любовь к циничному рок-музыканту по имени Богдан Богданович («Дар Господень, сын Дара Господня»). Пожалуй, лучше всего свою книгу описала сама Гроскоп в предисловии, назвав её «историей моего романа с русскими словами и русскими людьми». — Д. Ш.