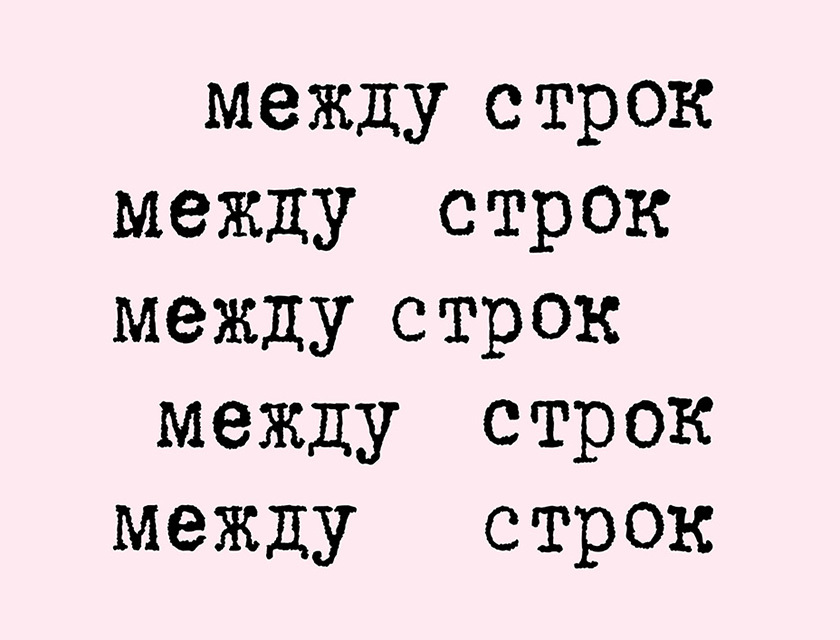Продолжаем публиковать расшифровки подкаста «Между строк»: в этом выпуске Лев Оборин разговаривает с поэтессой Оксаной Васякиной об одном из самых известных стихотворений Елены Шварц — «Элегии на рентгеновский снимок моего черепа». Каким образом возвышенное здесь сплавляется с приземлённым, а античное с современным? Что означает череп, плывущий в воздухе, летящий среди звёзд и стоящий на столе? Как Елена Шварц работает с телесными образами — и чему её опыт может научить современного поэта?
ЭЛЕГИЯ НА РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК МОЕГО ЧЕРЕПА
Флейтист хвастлив, а Бог неистов —
Он с Марсия живого кожу снял.
И такова судьба земных флейтистов,
И каждому, ревнуя, скажет в срок:
«Ты мёду музыки лизнул, но весь ты в тине,
Всё тот же грязи ты комок,
И смерти косточка в тебе посередине».
Был богом света Аполлон,
Но помрачился —
Когда ты, Марсий, вкруг руки
Его от боли вился.
И вот теперь он бог мерцанья,
Но вечны и твои стенанья.И мой Бог, помрачась,
Мне подсунул тот снимок,
Где мой череп, светясь,
Выбыв из невидимок,
Плыл, затмив вечер ранний,
Обнажившийся сад;
Был он — плотно-туманный —
Жидкой тьмою объят,
В нём сплеталися тени и облака,
И моя задрожала рука.
Этот череп был мой,
Но меня он не знал,
Он подробной отделкой
Похож на турецкий кинжал —
Он хорошей работы,
И чист он и твёрд,
Но оскаленный этот
Живой ещё рот...Кость! Ты долго желтела,
Тяжелела, как грех,
Ты старела и зрела, как грецкий орех, —
Для смерти подарок.
Обнаглела во мне эта жёлтая кость,
Запахнула кожу, как полсть,
Понеслася и правит мной,
Тормозя у глазных арок.Вот стою перед Богом в тоске
И свой череп держу я в дрожащей руке, —
Боже, что мне с ним делать?
В глазницы ли плюнуть?
Вино ли налить?
Или снова на шею надеть и носить?
И кидаю его — это лёгкое с виду ядро,
Он летит, грохоча, среди звёзд, как ведро.
Но вернулся он снова и, на шею взлетев, напомнил мне для утешенья:
Давно в гостях — на столике — стоял его собрат, для украшенья,
И смертожизнь он вёл засохшего растенья,
Подобьем храма иль фиала, —
Там было много выпито, но не хватало,
И некто тот череп взял и обносить гостей им стал,
Чтобы собрать на белую бутылку,
Монеты сыпались, звеня, по тёмному затылку,
А я его тотчас же отняла,
Поставила на место — успокойся,
И он котёнком о ладонь мою потёрся.
За это мне наградой будет то,
Что череп мой не осквернит никто —
Ни червь туда не влезет, ни новый Гамлет в руки не возьмёт.
Когда наступит мой конец — с огнём пойду я под венец.Но странно мне другое — это
Что я в себе не чувствую скелета,
Ни черепа, ни мяса, ни костей,
Скорее же — воронкой после взрыва,
Иль памятью потерянных вестей,
Туманностью или туманом,
Иль духом, новой жизнью пьяным.Но ты мне будешь помещенье,
Когда засвищут Воскресенье.
Ты — духа моего пупок,
Лети скорее на Восток.
Вокруг тебя я пыльным облаком
Взметнусь, кружась, твердея в Слово,
Но жаль, что старым, нежным творогом
Тебя уж не наполнят снова.1972
Это стихотворение 1972 года, входившее в самиздатовские сборники, — и одно из самых известных стихотворений ранней Шварц. Хотя тут, конечно, вопрос, что называть «ранней», потому что Шварц по-настоящему работала, писала с детства и в очень юном возрасте создавала совершенно поразительные вещи.
Текст действительно не самый простой для прочтения. И, конечно, он многое нам сообщает о поэтике Елены Шварц в целом. Мы видим, что он полиритмический, что он переходит с одного метра на другой, что, наряду с возвышенностью, в нём возникает какая-то неловкость при столкновении с собой, со своим буквально внутренним «я».
Я хотел начать с того, что оно обозначено как «элегия». Как указывает один из исследователей Елены Шварц Александр Догалаков, она вообще поэт жанровый, у неё масса элегий, од. То есть у неё есть потребность указать на жанр. Как тебе кажется — почему?
Это сложный вопрос. Мне кажется, это связано с тем, что Шварц вообще мыслила себя как поэтессу классическую. Классика как что-то вневременное. При этом меня всегда удивляло, как, работая с возвышенным, она инкорпорирует в это возвышенное очень простые, повседневные вещи. И сейчас я слушала её небольшую поэму «Чёрная Пасха» — и там у неё вместе с мясом и костями перемешиваются, например, джинсы. Или, например, стихотворение «Коляска, оставленная у магазина»: казалось бы, бытовая зарисовка, но коляску метит красноглазый голубь, а младенец обещает быть воскресшим вновь, что сразу отсылает нас к рождественскому мотиву. Что касается её желания жанрово обозначить свои поэтические тексты… Я не могу за неё думать, но у меня есть подозрение, что это была попытка строить реальность, в которой ты живёшь в контакте с вечностью. Потому что советское, с одной стороны, понималось как то, что «навсегда» (но оно всё же кончилось), — но при этом не имело статуса высокого. По крайней мере, в неподцензурной поэзии.
Действительно, когда ты говоришь о том, что бытовое, повседневное здесь соединяется с возвышенным, приходит в голову мысль об алхимии — которую не раз припоминали писавшие о Шварц. Например, процитирую статью Галины Рымбу: «Камень — в золото, слова — в живые стихи. Для этого она анархически подрывает классические размеры, быстро фланирует по ним в пределах даже нескольких строк, смешивает модернизм и барокко, низкое и возвышенное…» Это, действительно, и о нашем стихотворении, и о многих других. «Элегия на…», «элегия на что-то». Здесь выбирается рентгеновский снимок черепа. Опять же: это такой ультрамодернистский образ — потому что никакого рентгена, понятное дело, в классические времена быть не могло. Даже понятия об анатомии во времена классических античных элегий были весьма смутными по сравнению с современностью. Как тебе кажется, на всё ли возможна элегия?
Кто его знает? Я думаю, во вселенной Шварц элегия возможна на всё. Я недавно наткнулась на статью Гаспарова с попыткой классифицировать классические элегии. И, в частности, он там приводит, по-моему, элегию Баратынского как пример аналитической элегии. Элегию Пушкина он описывает как гармонизирующую. А элегию Жуковского он ставит где-то очень далеко от этих двух типов. И если даже в таком кажущемся гомогенном жанре, как романтическая элегия, есть разные способы её понимать и разные способы её писать, то почему же нельзя написать элегию на рентгеновский снимок? И если в эту категоризацию вставлять Шварц, то Шварц, конечно, создаёт элегию разных планов или разных пространств. Потому что сначала она нам даёт греческий контекст, потом она даёт нам контекст своего личного восприятия тела, потом она даёт нам воспоминание, в котором она стабилизирует мир до этих мёртвых. Она же забирает череп у человека, который хочет в него собрать деньги, в том числе для того, чтобы над её черепом в будущем не надругались. И в конце концов это всё приводит к воскрешению. Как мы можем назвать эту элегию? Если брать на себя роль Гаспарова, то, может быть, это элегия многоплановая. Может быть, она — элегия пространственная.
Догалаков, которого я уже упоминал, предлагает, в частности, термин «неоэлегия» — говоря, что это элегия нового типа. Она развивается не линейно, а действительно имеет дело с разными мыслями и все их сплавляет в один план. Но череп — это вполне традиционный образ.
Барочный.
Да, барочный — как эмблема смерти, как один из важнейших символов смерти. Мы можем вспомнить массу гравюр на тему тщеты, vanitas, в которых череп появляется. Можно вспомнить Гольбейна, на замечательном полотне которого «Послы» череп лежит под ногами героев картины — и чтобы увидеть его, надо подойти к картине с определённого угла. И понятно, что возможность просветить наше тело и увидеть в нём кости явственным образом показывает нашу смертность. Известна история о том, как жена Вильгельма Рёнтгена, первооткрывателя рентгеновских лучей, увидев снимок своей руки, воскликнула: «Я увидела свою смерть!»
И тут, конечно, вопрос о телесности поэзии Шварц — и о её связи с идеей смертности. Тут хочется процитировать Игоря Гулина, который писал, что перед нами барочная мистерия спасения, о которой ты только что говорила: она спасла чужой череп от надругательства и рассчитывает, что тем самым её собственный череп будет тоже сбережён от глумления. Это такое взаимное спасение, уже отсылка к будущему братству по ту сторону смерти. Так же и в стихотворении «Соловей спасающий» происходит спасение: из одного плана в другой. Но Гулин пишет о том, что именно тело — это та самая сцена, на которой разворачивается барочная мистерия спасения. Что такое тело у Шварц, как тебе кажется?
Мне кажется, когда мы говорим о Шварц, мы вообще не должны отделять тело от мира. Особенно если вспомнить «Элегии на стороны света». И в «Большой элегии на пятую сторону света» она пишет: в конце концов тело разрывается — и «я» становится центром этого тела. Если вспомнить пару стихотворений «Соловей спасающий» — потому что их же два стихотворения…
Да, два варианта.
Два варианта. Есть стихотворение-двойник ещё. Конечно, соловей — это метафора поэтического голоса. Когда мы говорим о соловье, мы, конечно, имеем в виду Филомелу, которая когда-то была изнасилована и чей язык когда-то был отсечён. И в конце концов эта немая женщина стала символом мужской поэзии. Но здесь Шварц как бы забирает себе эту привилегию — править голосом. Соловей у неё копает в ночи ямку и приносит комочек земли. И когда Шварц пишет про Марсия, с которого Аполлон снял кожу, — он же тоже комок. Этот комочек повсюду у неё присутствует. В стихотворении «Невидимый охотник» флейтист пишет на комочке кожи свою партитуру. И это интересный момент: тело не является чем-то, что отделяет существо, дух, всё что угодно, от мира. И пробивающийся через ночь соловей — это, скорее всего, тот дух, который через тело пробивается в мир. И так же там, где «шов проходит по гортани», там «Творец не жалел атласу», но тем не менее видны вот эти нитки:
У человека шов проходит по гортани —
сшивали там и спрятали изнанку.
Ой, вы мягкие игрушки,
розовейте на свету!
Сколько Творец не жалел атласу;
чтоб упрятать в вас — в темноту.
Марьонетки, ваши нитки
все видны.
И этот атлас, о котором она пишет, — это, скорее всего, и есть тот кожный покров, который разделяет мир вещей, явлений и человеческое тело. Таким образом, это всё — одна и та же масса, одно и то же тело. И поэтому в «Элегии на рентгеновский снимок» череп появляется в самом начале, после того как с Марсия снимают кожу. Он появляется в виде луны, что ли. Потому что он плывёт по небу, и прекрасные облака овевают эту луну. И это голова одновременно.
Мне представляется, что здесь просто рассказывается о том, как снимок смотрят на просвет на фоне неба и одно накладывается на другое. Вот эти облака, они плывут как бы уже под этим снимком.
Очень интересно то, что ты говоришь о божественном вмешательстве в план человека. Действительно, здесь античный план (когда говорится об Аполлоне и Марсии) переходит и в христианский. В первой строке здесь «Бог» с прописной буквы, дальше говорится: «И мой Бог, помрачась, / Мне подсунул тот снимок». Это, конечно, уже не Аполлон. И сама отсылка к комку грязи — это отсылка к праху, из которого в Ветхом Завете был создан Адам. Мы все — этот прах, мы вышли из земли и отойдём в землю. Но всё-таки череп сам по себе нам крайне важен. В тех же «Элегиях на стороны света», которые ты упомянула, вновь говорится о скелете. Там говорится, что скелет — это костяные оправы, в которые нас посадил бог. То есть мы должны как-то ценить, не пренебрегать этой «оправой», потому что она хранит драгоценность. Можно вспомнить пастернаковское стихотворение «В больнице», которое построено в конце именно как обращение к Господу. И больной в стихотворении говорит:
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр.
А череп — он, действительно, взывает к инкрустации. Мы знаем инкрустированные черепа-кубки. Вспомним «Мастера и Маргариту» — череп Берлиоза, из которого пьёт Сатана. Или недавний череп, который Дэмиен Хёрст инкрустировал бриллиантами — и получилось дорогостоящее, мрачное и барочное произведение искусства.
Я ещё к твоему перечислению черепов добавлю вообще моду на поп-барокко или поп-готику, когда очень многие люди наносят на себя черепа в цветах, и это тоже такой символ смерти — заштампованный.
Всё-таки я тебя хотел спросить о ценности тела. Не о том, что такое дух, который благодаря этому телу существует внутри человека, но о том, что такое само тело.
Почему, собственно, для меня важна Шварц? В первую очередь потому, что у неё нет разделения как такового на дух и тело. Хотя вначале, когда я говорила про соловья, мне просто необходимо было эту дихотомию ввести для того, чтобы было понятно, куда бьётся соловей. Но когда мы говорим, например, о стихах Шварц и о том, как она сама о них пишет… Например, стихотворение «Башня, в ней клетки», как раз первое из машинописного сборника «Войско, изгоняющее бесов». Шварц описывает птиц, которые — её стихи. Она пишет: «Осколки глаз своих я вставила им в очи». То есть поэтическое вещество предельно телесно. Оно бьётся в экстазе, оно повсеместно. Особенно если смотреть на «Большую элегию на пятую сторону света»: там тело разорвано — и эта разорванность, как мне кажется, является принципом организации этого тела. Или, например, если посмотреть на то, как этот череп плывёт в облаках, как она жонглирует этим черепом. Казалось бы, это тело разорвано, оно повсюду — но в то же время это тело единое. Это тело мира и тело вселенной. Вселенной поэтической в первую очередь. Потому что, мне кажется, каждое стихотворение Шварц посвящено поэзии и вдохновению.
Мне кажется, что, если вернуться к глубокому христианскому контексту этого стихотворения, идея мученичества, идея мучения тела, умерщвления плоти для приближения к Богу здесь играет очень важную роль. Шварц пишет: «Вот стою перед Богом в тоске / И свой череп держу я в дрожащей руке». Есть в христианской иконографии иконы и скульптурные изображения святых, которые держат в руках собственную голову. Это святые мученики, которым эту голову отсекли, и они подносят её, как дар, богу. Но при этом Шварц не понимает, может ли она так поступить. Она не понимает, что ей с этим черепом делать. Вот буквально, как у Мандельштама: «Что мне делать с ним?» В каком-то смысле это такой медитативный текст, который обращён к своему портрету. Обращение к автопортрету — это популярный жанр XIX века. Например, у Пушкина есть посвящение Кипренскому, написавшему его портрет. Или Полежаев в стихотворении «К моему портрету» пишет:
Судьба меня в младенчестве убила!
Не знал я жизни тридцать лет,
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет...
У Пушкина, кстати, тоже в этом стихотворении Кипренскому говорится: «И я смеюся над могилой». Почему? Потому что теперь есть моё изображение. Шварц же делает что-то совершенно другое. Она смотрит в то, что обещает ей смерть, и находит в этом какое-то утешение, да?
Ну она же ещё надеется на воскрешение. Она живёт в моменте. Несмотря на то что в этом стихотворении мы прослеживаем историю от Марсия до воскрешения и время якобы линейно — на самом деле одновременно существует всё. И мы можем сказать, что тексты Шварц уже существуют, после воскрешения. Или, может быть, в момент апокалипсиса. Когда я читаю её стихотворения, я всегда чувствую, что мир закончился и время закончилось. И поэтому можно одновременно существовать в мире, где живёт и Марсий, с которого снимается кожа, и происходит какая-то пьянка на квартире, где люди пытаются пойти за водкой. И в то же время она всё время пишет про разные нечистоты, про похмелье, про все эти физиологические подробности жизни тела.
Ну это, конечно, замечательная мысль, что она — эсхатологический поэт. Поэт момента, когда «времени больше не будет» и когда все эти реалии соединятся в одну. Кстати, в связи с тем, что ты сказала о физиологии: мне кажется, то, что сейчас делает Полина Барскова, происходит отсюда. Всегдашнее её внимание к физиологии, причём зачастую самой неприглядной, — наряду с полиритмией и с огромной её исторической темой. Как тебе кажется, это имеет отношение к Шварц?
Да, я здесь соглашусь. У неё всегда очень много влаги и жидкости. И если говорить о Шварц — она же такая текучая. Мы всегда имеем отношения с метаморфозой, перетеканием из одного в другое. А у Барсковой часто — перечисление разных жидкостей, которые выделяет тело. То ватка в ушке у неё там появляется, то какие-то слизи, то что-то чавкающее.
И что-то разлагающееся довольно часто.
Да-да, соглашусь.
Мне кажется, что вот эта идея — взгляд на своё тело, который как бы отчуждает тебя от него, — он для поэзии очень важен. Взгляд на свою изнанку, на свою внутренность, на свой хребет и скелет заставляют, наоборот, ощутить свою как бы бестелесность. Шварц пишет здесь:
Но странно мне другое — это
Что я в себе не чувствую скелета,
Ни черепа, ни мяса, ни костей,
Скорее же — воронкой после взрыва…
То есть это я себя так ощущаю.
Иль памятью потерянных вестей,
Туманностью или туманом,
Иль духом, новой жизнью пьяным.
То есть — парадокс: вот передо мной мой череп, но это не я. И тут, конечно, сразу вспоминается, например, стихотворение Ходасевича «Берлинское», где он рассказывает, что он с отвращением узнаёт «Отрубленную, неживую, / Ночную голову мою». Это какой-то такой общий сентимент.
Ещё другое стихотворение Шварц вспоминается — «Воспоминание о мытье головы в грозу», где она пишет: «В тазу плавали в пене мои глаза». То есть это не я смотрела на себя, а я смотрю на какие-то свои отдельные глаза, как глаза святой Лючии — извлечённые, вырванные и тоже ставшие символом мученичества. Я бы хотел тебя спросить, может быть, даже не только о поэзии Шварц, но о твоём ощущении этого отчуждения от тела в поэзии вообще. Что это, зачем это, как это получается?
Ну я думаю, что относительно Шварц — что же это за ситуация, в которой нам необходимо сделать рентгеновский снимок черепа? Я полагаю, что это связано с болезнью. И вот эта близость… Буквально вчера вышло эссе Наринской о Дашевском, в котором она цитирует стихотворение про боль. Это радикальный опыт переживания тела. Он и даёт, собственно, возможность от него отстраиваться. Конечно, Дашевский в эссе Наринской говорит о том, что боль — это боль и не нужно её эстетизировать, не нужно вокруг неё ничего нового выстраивать. Но в случае с Шварц обратный процесс. То есть, наоборот, нужно выстроить такой храм вокруг этой боли, чтобы её хоть каким-то образом оправдать, что ли. Не очень много я знаю примеров женской поэзии, посвящённой старению, но, мне кажется, вот то, что называется «самый пик», «самая вершина», — это стихи Инны Лиснянской «В пригороде Содома» — где, с одной стороны, появляются библейские мотивы, а с другой стороны, библейское как нечто вечное противопоставляется телесному. Особенно женскому телу, потому что оно бесконечно стареет и оно неуловимо даже в своём старении. Потому что я уже в 30 лет замечаю на своём огромное количество морщин.
Бродский тоже в 30 с чем-то писал: «Старение! Здравствуй, моё старение! / Крови медленное струение». Это нормальная история. Да, при этом ещё у Лиснянской есть замечательный сборник «Без тебя», посвящённый жизни без спутника её жизни — Семёна Липкина. И история о том, что вместе с этим старением уже приходит одиночество. И переживание этого процесса в одиночку делает его, конечно, ещё более трагическим и важным для проговаривания.
Но, мне кажется, в таком случае, если уже выстраивать какую-то схему — я люблю выстраивать схемы, — то Лиснянскую и Шварц мы поставим на разные полюса. Потому что Лиснянская работает больше с меланхолией и ностальгией, а Шварц работает с радикальным проживанием опыта тела в моменте. И на этой линии ещё между ними можно ставить другие имена, как-то, в общем, от них отталкивающиеся.
Тело тут в каком-то смысле ставка. Ставка за своё поэтическое ремесло. Не случайно всё начинается с Марсия — который, согласно греческому мифу, победил в музыкальном состязании с Аполлоном, и разгневанный Аполлон снял с него заживо кожу. Собственно, это метафора опасности поэтического ремесла, которое очень многое с тебя спрашивает за то, что ты делаешь, за твою дерзость. Я не знаю, можно ли сказать, что Шварц переживает о том, что это как бы профанируется? Мы можем заглянуть внутрь себя с помощью рентгена, и нам не надо для этого снимать с себя кожу. А может быть, на самом деле эта проблема для неё не стоит — и по-прежнему само переживание уже обеспечивает нам в каком-то смысле этот опыт, опыт снятия кожи?
Мне кажется, для неё не стоит этот вопрос совершенно. Для неё этот снимок становится тем, от чего можно оттолкнуться. То есть смерть — это же то, что мы называем «вечные темы». Но мне здесь интересен ещё образ Аполлона, он стал «мерцающим богом». Потому что сатир, обвившись вокруг его руки, буквально физически заслонил своим телом тело бога солнца. Аполлон как бы исчезает за освежёванным Марсием. На место света приходит мерцание плоти.
А тут ещё идея того, что бог мерцания — это ещё и бог вот этого просвечивания. Потому что Аполлон, помимо того, что он покровитель искусств, он ещё и бог света. И это всё, конечно, совершенно не случайно здесь сплелось. По поводу флейты Марсия… Ну, помимо того, что так назывался дебютный сборник Бенедикта Лифшица, тоже говоривший самим названием об этом дерзновении состязания с богом, — ну какая у нас главная флейта в русской поэзии? Это, наверно, «Флейта-позвоночник» Маяковского.
Ещё Тредиаковский:
Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны…
Это первое, что мне вспоминается. Но теперь уже и «Флейта-позвоночник».
Да. Ну «Флейта-позвоночник» почему? Потому что здесь позвоночник, который упоминается, шея, и мы говорим о просвечивании тела — и сразу все эти скелетные, анатомические подробности возникают. На самом деле не я это придумал, конечно: эту догадку высказывает замечательный филолог Владимир Топоров в статье под названием «Флейта водосточных труб и флейта-позвоночник», которая посвящена именно образу флейты у Маяковского и других поэтов. Но у Шварц, как мне кажется, здесь это говорит о том, что опять же она готова своё тело претворить, переосуществить в музыку и в искусство. В каком-то смысле это такое смиренное несостязание — опять же подражание богу.
И я вспоминаю, конечно же, Афину и Арахну. Интересно, что Афина за то, что Арахна побеждает её, просто даёт ей по лбу какой-то там тросточкой, а с Марсия снимают кожу. Здесь мы видим иерархию искусств. С одной стороны, плетение — это вот качество такое анонимное и женское, что называется. Получается, что преступление против божественной власти также ранжируется. Слава богу, можно просто превратиться в паучиху — но можно и без кожи остаться и при жизни ощутить невозможные муки.
Это всё ужасно интересно, потому что в классической теории искусства оно воспринимается как подражание, как мимесис. А здесь получается уже подражание самому искусству среди людей. Боги умеют делать какие-то первообразы искусства, а люди могут только им подражать более или менее успешно — и за это расплачиваться. На самом деле ещё один важный текст, который напрямую упомянут в «Элегии» Шварц, это «Гамлет» Шекспира. И это текст, в котором встречается не только череп бедного Йорика, но и флейта, на которой Гамлет предлагает сыграть и потом вопрошает: «Неужели вы думаете, что на мне играть проще, чем на флейте?»
Конечно, все говорят о том, как близка поэтика Шварц с театром и как вообще её такая масочная лирика работает.
Мы знаем, что она буквально выросла за кулисами товстоноговского БДТ и что она работала как переводчик пьес, была из театральной семьи. Так что, наверно, это неудивительно.
Я хотел ещё прочитать стихотворение Шварц 1995 года, которое мне кажется постскриптумом к «Элегии на рентгеновский снимок моего черепа». Оно более отстранённое, более персонажное. Здесь поэт говорит не о себе. Стихотворение это называется «Круговращение времени в теле». И опять же обратим внимание — сразу абсолютно чёткое обозначение тематики:
Эта девушка — чья-то дочь,
В глазах — голубая вода,
В паху у неё — глухая рваная ночь
И розовая звезда.
А в сердце у ней — который час?
Между собакой и волком.
Синий сумеречный льётся атлас
Под воткнутой в центр иголкой.
А во лбу у неё предрассветный сад —
Занялось — вот сейчас рассветёт,
Но в затылке уже багровый закат,
В позвоночник полночь ползёт.
Здесь снова «полночь». Жизнь уподобляется дню, а полночь означает смерть — и снова эта смерть гнездится где-то внутри, в костях. И лицо обращено к рассвету, а затылок уже к закату. И вообще весь человек представляется здесь, как у Хармса говорилось: «Человек устроен из трёх частей…» — он весь состоит из частей и телесных, и временных.
Кстати, по поводу масочной лирики. Мне кажется, что всё-таки маска — это способ ещё раз выразить себя. Субъект, который вечно мечется… я не могу сказать «нарциссичный», но, скорее, «автообращённый». Шварц всегда писала об опыте, который, как мне кажется, сама переживала. Тут можно идти в дебри истории женского письма и, например, вспоминать Хэлен Сиксу Элен Сиксу (р. 1937) — французская писательница, постструктуралистка, теоретик феминистской литературы. Авторству Сиксу принадлежит концепция «женского письма», множество поэтических сборников и несколько романов, монографии Жака Деррида, Джеймса Джойса, Мориса Бланшо, Франца Кафки, Ингеборг Бахманн и других. , которая писала в «Хохоте Медузы» о том, что женщина пишет телом, и должна писать телом, и должна писать только о себе, о себе, о себе и о себе… Если убирать религиозные коннотации, хотя их невозможно изымать из этих текстов, потому что они — изначальный источник их самих, — но тем не менее если сопоставлять теории женского письма с письмом Шварц, то окажется, что они друг к другу очень хорошо подходят, одно является иллюстрацией другого. Потому что когда она пишет «она — чья-то жена» и «она — чья-то дочь» — это речь, как будто отражённая от стен. Или от зеркала. То есть это смотрение на себя со стороны, говорение о себе в третьем лице.
Можешь ли ты сказать, что даёт чтение Шварц тебе как поэту?
Ох… Мне оно даёт ощущение, что есть определённая грань, за которую можно ещё выходить. Когда я читаю эти тексты, я понимаю, что свобода на самом деле кончается не у меня перед носом. Есть амплитуды, которые можно ещё пробивать. Каждый раз, возвращаясь к Шварц, я, конечно, выношу из этих текстов большое удивление. Ну и, конечно же, меня укачивает от постоянной смены регистров. Как в машине, знаешь, на серпантине. Но в первую очередь это, конечно, свобода, которой мне порой самой не хватает. И я хожу туда, к Шварц, чтобы эту свободу брать для себя.