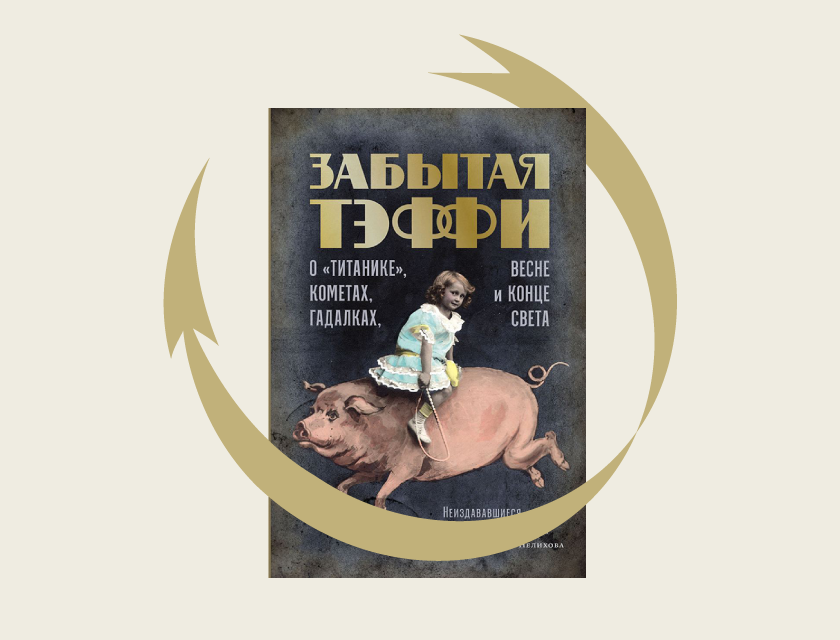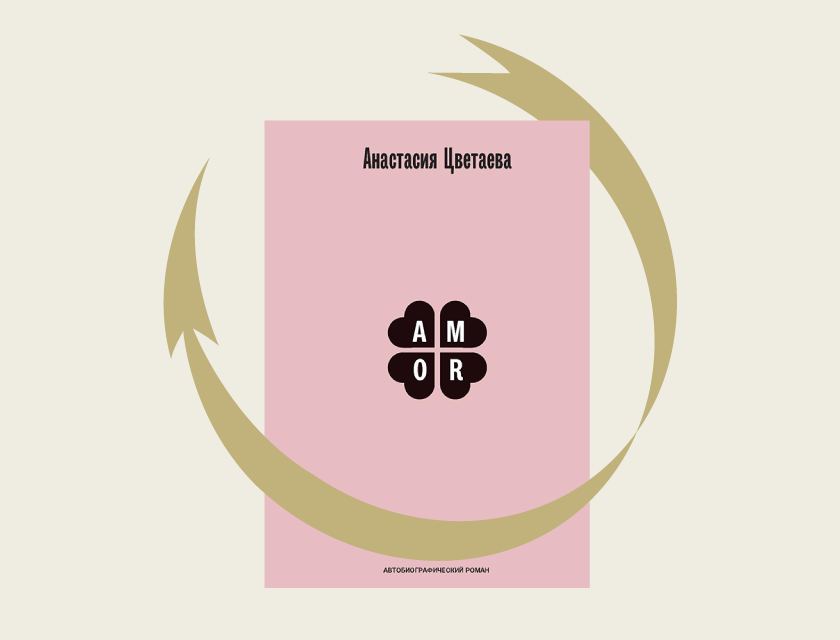Репринт: поэтика недоверия и внук Николая Носова
Мы снова рассказываем вам о переизданиях, на которые стоит обратить внимание. В этом выпуске — важнейшая работа о Зощенко, постмодернистский роман о готическом замке, израильская современная классика для подростков, повесть Николая Носова о взрослении маленького внука и полное собрание стихотворений графа Петра Бутурлина.
Александр Жолковский. Михаил Зощенко: поэтика недоверия
Издательство URSS выпустило новое переиздание классической работы Александра Жолковского «Михаил Зощенко: поэтика недоверия». Впервые вышедшая в 1999 году, эта книга легла в основу переосмысления прозы Зощенко, которую до этого в основном трактовали как сугубо сатирическую, направленную на отображение социальных проблем и курьёзов пореволюционной эпохи. Жолковский системно показал связь сатирической прозы Зощенко с его центральным автобиографическим произведением — повестью «Перед восходом солнца» — и распространил намеченный самим писателем психоаналитический подход на весь корпус зощенковских текстов. Несмотря на то что новое переиздание вышло без ведома автора (в отличие от предыдущего, напечатанного URSS в 2007 году), Александр Константинович согласился рассказать «Полке» об истории книги — и о том, как развивались его идеи о поэтике Зощенко после её выхода.
Александр Жолковский:
Мои взаимоотношения с этим издательством — URSS — вначале были вполне стандартные. Книжка впервые вышла в «Языках русской культуры», полностью окупилась, но переиздавать её там не захотели. В итоге «Языки русской культуры» передали URSS право на переиздание, те выпустили книжку дешёвым образом, я был очень доволен. С тех пор они время от времени её перевыпускают, чтобы это выглядело как новинка. На издания в России я не смотрю с коммерческой точки зрения: книжка распространяется — и прекрасно.
До первого издания этой книги 1999 года у меня были отдельные статьи о Зощенко. Была и более ранняя статья «Лев Толстой и Михаил Зощенко как зеркало и зазеркалье русской революции», написанная с немного иной позиции, и потому она в книжку не вошла. Она была сначала напечатана в «Синтаксисе» «Синтаксис» — литературный журнал, выходивший в Париже в 1978–2001 годах. Главным редактором был Андрей Синявский, а после его смерти — его жена Мария Розанова. Журнал продолжал одноимённый самиздатский альманах, выходивший в Москве в 1959–1960 годах. «Синтаксис» Синявского был одним из главных изданий третьей волны русской эмиграции. у Синявского, а потом перепечатывалась в России в моих книгах. «Вопросы литературы» вот буквально на днях прислали мне известие, что они включили эту статью в свою подборку «замечательных статей» о зеркалах — эту и ещё одну мою статью, про стихотворение Ходасевича «Перед зеркалом», где я обнаруживаю важные подтексты из Толстого и Анненского. Ну, это к слову.
А что касается Зощенко — я в последние пять лет напечатал ещё две новые статьи о нём. Одну — с разбором рассказа «Личная жизнь» и обнаружением в нём новых смыслов, уже не совсем в традиции «Поэтики недоверия». Эта статья — на тему, которая меня в последнее время занимает: ситуация, когда рассказчик или другие персонажи произведения выступают в роли деятелей литературного процесса — авторов, редакторов, цензоров, переводчиков и так далее. И вот я разобрал «Личную жизнь» — вообще-то рассказ про женщин, секс, любовь и так далее — как имеющий это измерение «авторства», поскольку этот переодевающийся «я» и стоящий за ним автор, в сущности, транслируют своё желание добиться внимания не только женщин, но и вообще всех потенциальных читателей.
Другой рассказ, который я заново разобрал уже после книги, — «Забавное приключение». Такой очень водевильный рассказ, здесь опять-таки интересная литературоведческая тема: аграмматичность, графомания, плохопись. Она возвращает нас к идеям «поэтики недоверия» — к образу героя, который испытывает постоянные фобии, не доверяет ничему. Эта модель работает и в метатекстуальном плане: герой боится языка, не справляется с языком. А ведь это ещё одна сторона жизни, и может быть центральная, ибо связанная с «властью». Зощенковские герои — неудачники, лузеры, «андердоги» (условно — «мещане»). Они неграмотные, некультурные и так далее. И моя мысль в том, что зощенковский сказ отражает то, что герой не справляется с языком, а язык — одна из основных властных структур общества.
Вообще, в новейшей российской филологии есть три основных работы о Зощенко. Книга Мариэтты Чудаковой, статья Юрия Щеглова «Энциклопедия некультурности» и моя книга. И это три совершенно разные модели поэтики Зощенко. С Щегловым мы потом много соавторствовали. Его «Энциклопедию некультурности» я очень ценю — хотя его подход скорее традиционный, так сказать «культурологический»: проза Зощенко как отражение проблем и разрушений в культуре после революции. Мой же подход, условно психоаналитический, ставит во главу угла зощенковского персонажа, этот комический вариант отнюдь не комического автора-рассказчика повести «Перед восходом солнца». Забавно, что мы все одного поколения и учились на одном курсе филфака (1954–1959) — Чудакова, Щеглов и я.
Роман Шмараков. Каллиопа, дерево, Кориск
«Альпина.Проза» переиздаёт книгу Романа Шмаракова «Каллиопа, дерево, Кориск» — эпистолярный роман, работающий и с мотивами, и с атмосферой готической литературы — но работающий постмодернистски, филологически. Перед нами не то чтобы пародия, потому что этот роман, как и другие вещи Шмаракова, переводчика античной и средневековой литературы, пронизан восхищением перед силой языка. «Каллиопа» — книга с трудноуловимым сюжетом, постоянными отступлениями, куртуазным юмором в духе Джерома и Вудхауса (а иногда и Стерна), бесконечными отсылками — то к Прокопию Кесарийскому, то к Корнею Чуковскому, с ироничным анализом собственного письма. «Каллиопа» вышла впервые в 2012 году — и с тех пор снискала любовь небольшого, но преданного круга читателей (к которым мы себя охотно причисляем). Выход нового издания мы попросили прокомментировать самого автора.
Роман Шмараков:
Я стараюсь не перечитывать свои книги, потому что поводы к расстройству могу себе и другие найти. Однако переиздать роман, не читая редактуры и вёрстки, невозможно. Говорить, что «сейчас бы я это сделал иначе», бессмысленно — сейчас бы я этого, скорее всего, совсем не сделал. Я понимаю людей, которых «Каллиопа» раздражает, и признателен тем, которым она нравится: это великодушные люди, способные многое простить. Кроме того, выяснилось, что я совершенно не помнил, что там происходит, — для романа, в котором, помимо прочего, описано изобретение искусства забывания, это комично.
Текст романа почти тот же, что в предыдущем издании (2013), за одним исключением: я убрал переводы иноязычных цитат, бывшие в конце книги. Эти переводы я сделал в своё время по внешним причинам, но при первом случае от них избавился, потому что комментировать свои тексты значит уважать себя больше, чем позволяют приличия, а я не хочу, чтобы публика в этом меня заподозрила.
С удовольствием хочу сказать, что я наконец нашёл издателя на две книги, написанные в 2014 году и изданные доныне только на «Ридеро», — «Книгу скворцов» (появится в самом скором времени) и «К отцу своему, к жнецам». Благодаря Марии Нестеренко, которой я бесконечно признателен, эти книги издаст «Азбука-Аттикус».
Давид Гроссман. С кем бы побегать
В «Азбуке» выходит переиздание романа современного израильского писателя Давида Гроссмана «С кем бы побегать». Этой книге в России повезло: переведённый Гали-Даной и Некодом Зингер, он публиковался в «Фантом Прессе», а затем «Розовом жирафе». Роман для юношества, но и для взрослых, история подростков Асафа и Тамар, а ещё собаки Динки полна опасных приключений, и хотя находились критики, упрекавшие Гроссмана в спекуляции на острых темах, читательскому успеху это не помешало. Как и в Израиле и других странах, книга стала в России бестселлером — и сейчас, видимо, это повторится. Мы попросили рассказать о переиздании Дарью Захарченко, ведущего редактора направления современной художественной литературы «Азбуки».
Дарья Захарченко:
Гроссман пишет книги об обычных людях, разрезая их жизнь и видение окружающего мира под таким углом, чтобы каждый читатель увидел в них необыкновенность. Причин уникальности человека может быть великое множество, но книга «С кем бы побегать» получилась особенной не в малой степени благодаря тому, что главным действующим лицом становится подросток — мальчик по имени Асаф.
Реальность вокруг нас неизменна, меняются лишь настроения, через которые мы воспринимаем мир. Для шестнадцатилетнего мальчишки Асафа сложное поручение — всё равно что приключение, самое странное знакомство — возможность узнать что-то новое и завести необычную дружбу, а улицы Иерусалима, иногда мрачные, таящие в себе не один секрет, полны самой настоящей, пронзительной, но такой интересной действительности.
Иногда мы забываем о том, что такое жизнь. Что несмотря на то, что она полна страхов, опасностей, печалей и горя, она полна также радостей, счастья, любви. Думаю, что, читая «С кем бы побегать» Давида Гроссмана, каждый взрослый вспомнит, как когда-то и сам был Асафом. Вспомнит, каким восторгом и радостью могло наполняться сердце просто оттого, что наступил новый день, и с каким энтузиазмом гляделось вперёд. Вспомнит, как отрадно было открывать этот мир по кусочкам, узнавать о такой разной жизни окружающих людей и становиться частью чего-то большего. Гроссману удалось написать об обычных днях из жизни обычного мальчика так, чтобы они показались нам с вами настоящим приключением, и в этом как нельзя лучше отражается его писательское мастерство.
Николай Носов. Повесть о моём друге Игоре
Издательство «Махаон» переиздаёт «Повесть о моём друге Игоре» — книгу, которую автор «Незнайки» и «Фантазёров» посвятил своему внуку. Носов внимательно наблюдал за тем, как внук взрослеет, узнаёт мир, учится ходить, говорить, думать, считать, рисовать, классифицировать предметы, сочинять стихи, — по сути, это исследование психологии ребёнка на одном конкретном примере. Мы знакомимся с годовалым Игорем, а закрываем книгу, когда ему уже шесть (сегодня Игорь Носов — фотожурналист и детский писатель, тоже сочиняющий книги о Незнайке). По нашей просьбе о «Повести» и других переизданиях Носова в «Махаоне» рассказывает редактор отдела детской художественной литературы Алёна Ямщикова.
Алёна Ямщикова:
Издательство «Махаон» многие годы выпускает классику Николая Носова: трилогию сказочных романов о Незнайке, наполненные юмором повести и рассказы. Каждое издание украшают иллюстрации замечательных художников: Ивана Семёнова, Вадима Челака, Алексея Лаптева, Александра Борисенко, Аминадава Каневского, Генриха Валька и других.
В 2024 году мы получили эксклюзивное право на выпуск всех произведений писателя. Появилась возможность переиздать давно не выходившие тексты, не теряющие ценности для читателя. В последние месяцы мы выпустили две особенные книги. «Незнайка учится. Пьесы для школьных театров» — это сборник пьес, созданных для школьников, которые пробуют себя в театральном искусстве. Носов-драматург продумывал не только реплики и действия героев на сцене, но и декорации, и реквизит. А «Повесть о моём друге Игоре», переиздание книги 1972 года, — сокровищница воспоминаний Носова, заметки, которые он делал, наблюдая за взрослением любимого внука. Общение с ребёнком, игры, совместное чтение — всё это помогло Носову увидеть мир глазами маленького мальчика. Перед нами и дневник дедушки, и история двух друзей, вместе познающих радостные моменты жизни — только для ребёнка они происходили впервые, а для его деда давно изведанное открывалось с новой стороны. Каждая глава состоит из коротеньких рассказов о доме, играх, друзьях. Тонкий психологизм, описание счастливых мгновений делают эту книгу интересной для любого возраста.
В наше издание включены фотографии из семейного архива — работы Петра Носова, сына Николая Николаевича, фотокорреспондента ТАСС. Эти снимки, хранящие воспоминания семьи Носовых о детских годах героя книги, публикуются впервые.
Пётр Бутурлин. Полное собрание стихотворений
В ОГИ вышло полное собрание поэтических произведений графа Петра Бутурлина (1859–1895) — поэта и дипломата XIX века, писавшего не только по-русски, но и по-английски. Бутурлина можно отнести к забытым поэтам — но его стихи, особенно сонеты, как бы предвосхищают открытия Серебряного века. Новое собрание включает примечания, иллюстрации, приложения и дополнения — воспоминания о Бутурлине и другие связанные с ним тексты. По просьбе «Полке» о поэзии Бутурлина и работе над новым изданием рассказал его составитель — поэт и переводчик Максим Калинин.
Максим Калинин:
Попытку издать полное собрание стихотворений графа Петра Дмитриевича Бутурлина сделала ещё его супруга Ядвига практически сразу после смерти поэта. Безо всякой системы она издала все стихотворения из бумаг мужа (в 2002 году это собрание в сокращённом виде перепечатало издательство «Лимбус Пресс»). Так как усадьба Бутурлина в местечке Таганча Киевской губернии (ныне это Черкасская область) сгорела в шестидесятые годы прошлого века, а местонахождения архивов (если таковые были) в настоящее время недоступны, то для действительно полного собрания осталось бы добавить к существующей книге неучтённые журнальные публикации. Но поэт, по мирской своей профессии — дипломат, был человеком необычной судьбы. Родился он во Флоренции и первую известность как поэт получил за стихи, написанные по-английски. Одно из стихотворений даже было напечатано в дайджесте Littell’s Living Age, публиковавшем лучшие материалы из английских и американских изданий. Понятно, что ни о какой полноте собрания не может быть и речи без английских стихов. Составителю было очень необычно найти в лондонском еженедельнике Academy от 1883 года стихотворный цикл «Южнорусские зарисовки». Потом мне посчастливилось отыскать в знаменитой флорентийской Библиотеке Маручелли архив итальянского писателя Карло Плаччи (1861–1941), друга Бутурлина, в котором были пара десятков стихотворений поэта, а также его письма к Плаччи. В письмах подтвердилось его знакомство с поэтом Юджином Ли-Гамильтоном (1845–1907), одним из лучших мастеров сонета Викторианской эпохи. Нельзя не заметить отголоски драматических монологов из «Воображённых сонетов», лучшей книги Ли-Гамильтона, в некоторых сонетах Бутурлина, например в «La Martyre aux colombes» («Мученица с голубями»). Возможно, именно мнение англичанина повлияло на пребывающего в раздумьях Бутурлина, когда он выбирал для творчества наиболее удобный ему язык. В письме Карло Плаччи от 28 сентября 1885 года Бутурлин очень эмоционально сообщает другу: «Френсис Эрл умер [английский псевдоним поэта], окончательно и бесповоротно, и не воскреснет никогда... Вместо него родился русский поэт — лучший, чем он, — так что я не в проигрыше. Поймёшь ли ты когда, насколько я рад этой перемене!!!! < … > Как бы то ни было — я начал. Иного не дано. И всем этим я обязан Ли-Гамильтону...» Таким образом, можно смело говорить не только о французском (в лице Жозе Марии де Эредиа) влиянии на Бутурлина, а через него и на весь русский сонет, но и об английском.
При выборе структуры этого издания составитель ориентировался на оставшийся при жизни неосуществлённым авторский замысел Бутурлина, о котором поэт писал редактору журнала «Наблюдатель» Александру Пятковскому: «Многоуважаемый Александр Петрович, позвольте Вам преподнести экземпляр моих сонетов, — многие из к[ото]рых Вы наверно узнаете, так как они, благодаря Вам, появились впервые на страницах симпатичного Наблюдателя. Как видите, мечта, о к[ото]рой я Вам говорил в Париже, начинает осуществляться! и, я надеюсь, что со временем мне удастся достигнуть классического числа «ста одного» сонета!!... Но такой большой сборник пока мне только мерещится в туманном будущем!!!» (Киев, 16 ноября 1891 года). Таким же образом устроены книги поэтов — современников и учителей Бутурлина. Сто и один сонет (вступление и сто сонетов) составляют «Дом жизни» Данте Габриэля Россетти, одного из его любимейших поэтов, и знаменитые «Воображённые сонеты» уже упомянутого Юджина Ли-Гамильтона. Становится ясно, что на момент безвременной кончины Бутурлина создание книги сонетов было его главной творческой задачей, поэтому настоящее издание открывают сонеты, собранные из всех книг, журналов и рукописей, а уже за ними следуют остальные стихотворения поэта.
В общей сложности нам известно восемьдесят сонетов Бутурлина, не считая семи англоязычных. В посмертную книгу «Сонеты» вошло всего пятьдесят восемь, что оспаривает утверждение о том, что её окончательная редакция принадлежала самому автору. За пределами книги «Сонеты» остались многие достойные стихотворения, в том числе опубликованные в журналах. Не вызывает сомнений и то, что порядок стихотворений не был тематическим, а хронология их создания не была указана, так что даже теперь установить её сложно из-за скудости архивных материалов.
Учитывая перечисленные обстоятельства, составитель взял на себя смелость самостоятельно расположить сонеты Петра Бутурлина в этом сборнике, соблюдая авторский порядок стихотворений и разбивку на условные циклы, наличие которых заметно без сомнения и не раз отмечалось критикой. Пускай поэт немного «недотянул» до «ста и одного» сонета, но известны и другие не подчиняющиеся этому закону книги, например «Трофеи» Эредиа.