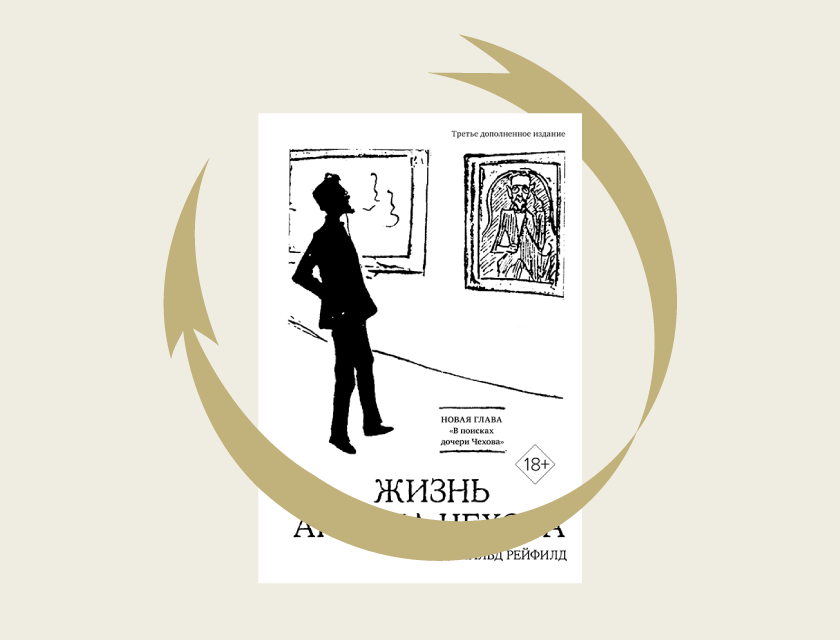Репринт: «Езда в остров любви», забытая Тэффи, казанский Хлебников
Рубрика «Репринт» возвращается со свежими переизданиями, заслуживающими вашего внимания. Сегодня в ней — бестселлер XVII века в переводе Тредиаковского, собрание произведений Велимира Хлебникова, написанных в Казани, трактат философа-обэриута Леонида Липавского, роман Юрия Давыдова о народовольцах и тексты Тэффи, не переиздававшиеся целый век.
Поль Тальман. Езда в остров любви
«Езда в остров любви» Поля Тальмана (в более архаичном написании Таллемана) — памятник не только французской, но и русской литературы. Этот роман XVII века был переведён Василием Тредиаковским, в ту пору великовозрастным студентом, почти через 70 лет после оригинальной публикации — но, несмотря на такое запоздание, текст остался актуальным: читатели-аристократы в эту пору осваивали язык салонной чувственности, которым полнится этот аллегорический роман, и он на короткое время пришёлся ко двору — не говоря уж о том, что в своём переводе Тредиаковский продемонстрировал возможности (и ограничения) русского силлабического стиха.
Полный текст перевода не переиздавался с XIX века; нынешнее издание, вышедшее в издательстве «Носорог», подготовлено Сергеем Егоровым, Александром Кочековским, Кириллом Осповатом и Марией Янушкевич. Мы попросили издателя Катю Морозову и двоих участников работы над книгой рассказать о «Езде в остров любви» и её новом книжном оформлении — для которого Сергей Егоров создал специальный шрифт.
Катя Морозова:
Идея обратиться к «Езде в остров любви» возникла благодаря Сергею Егорову, дизайнеру шрифтов, с которым мы работали, когда готовили публикацию некоторых глав «Гипнэротомахии Полифила» для «венецианского» номера «Носорога». Сергей вместе с Борисом Соколовым уже много лет кропотливо создают русскоязычный текст этой удивительной книги. Роман Поля Тальмана, переведённый Тредиаковским, конечно, во многом вдохновлён «Гипнэротомахией», одним из важнейших текстов Ренессанса. Идея печатать расширенную версию — не только роман, но и стихотворное дополнение — появилась уже после совета филолога Кирилла Осповата, который любезно согласился участвовать в нашей затее.
Кирилл Осповат:
«Езда в остров любви» — это любовный роман Поля Тальмана, переведённый с французского Василием Тредиаковским в 1730 году и, как считается, положивший основание русской светской литературе. Роман написан в форме аллегорического путешествия на Киферу, остров Афродиты-Венеры, в ходе которого герой открывает для себя радости и горести флирта и любви, ухаживания, расставаний и полиамории. В аллегорическом повествовании Тальмана любовные отношения вынесены за пределы патриархальных норм и иерархий и описаны как сфера свободного решения женщин. Роман Тальмана поэтизировал устойчивые практики французского аристократического быта конца XVII века, перевод Тредиаковского вводил адюльтер (практиковавшийся, конечно, и в России) в число легитимных практик новой, послепетровской придворной и дворянской культуры.
Кроме «Езды в остров любви» в издании публикуется никогда не переиздававшийся «Панегирик, или Слово похвальное... Анне Иоанновне» (1732) Тредиаковского. Эта похвальная речь императрице, перемежаемая стихами, была написана Тредиаковским в неформальной роли придворного поэта, в которой он оказался после успеха «Езды в остров любви». «Панегирик...» создал тот язык литературной хвалы монарху, который после осмеянного Тредиаковского с намного большим успехом разрабатывали Ломоносов и Державин. Тредиаковский выстраивал эстетический культ персоны монарха, чтобы вытеснить из политического сознания механизмы избрания и конституционного ограничения высшей власти, запущенные было при призвании Анны на престол в 1730 году. Вместе два этих сочинения Тредиаковского демонстрируют родство гедонизма и деспотизма, пронизывавших придворные культуры Франции и России.
Сергей Егоров:
Когда задумывался типографический облик «Езды», с самого начала возникло ощущение, что в нём должен соблюдаться баланс между архаикой и современностью. Хотелось, чтобы он передавал общий дух исторического набора, но не ограничивал себя теми же рамками, которыми был зажат российский издатель XVIII столетия — как в части доступных шрифтов, так и в части опыта набора художественных и особенно стихотворных текстов. Повторять ранние неудачные книжные опыты не хотелось, так что было решено ограничиться одним кеглем и одним семейством шрифта для всей книги. Такое решение должно производить на современного читателя несколько архаическое впечатление, но не мешать бы чтению.
За образец были взяты издания классики, выходившие в 1930-х в издательстве Academia, набранные оригинальной гарнитурой «Елизаветинской». Она была создана в словолитном заведении Лемана в середине 1900-х и своим дизайном во многом обязана образцам словолитни Ревильона конца 1840-х. Ну а ревильоновские шрифты были близки к шрифтам московской типографии Августа Семёна при Медико-хирургической академии, где в 1834-м вышло второе издание «Езды» по тексту первого издания 1730 года. Все эти шрифты восходят к французским образцам конца XVIII века.
Проще всего было бы, конечно, воспользоваться современной цифровой версией «Елизаветинской», но она слишком светла и по-современному аккуратна. Требовался более тяжёлый, чуть рыхловатый шрифт, который мог бы передать ощущение от ручного набора более чем вековой давности. Так появилась идея создать вариацию на тему гарнитур Ревильона, учитывающую особенности современного цифрового набора. Итоговый шрифт, получивший название «Ревильон» стал увесистей и приземистей «Елизаветинской», а мелкие детали «одомашнены» благодаря отклонениям от геометрического идеала.
Заголовочный шрифт («Парагон»), буквицы и политипажи созданы специально для данного издания на основе образцов типографии Бекетова («Большой канон», 1805) и французских образцов тех же годов.
Единая книга. Велимир Хлебников в Казани: 1898–1908
Казанский центр современной культуры «Смена» выпустил книгу произведений великого футуриста Велимира Хлебникова, связанных с Казанью: в этом городе Хлебников прожил десять лет, не раз упоминал его в стихах, прозе и дневниках. Мы попросили рассказать об этом томе его составителя — поэта и литературоведа, специалиста по русскому авангарду Арсена Мирзаева.
Арсен Мирзаев:
С Казанью, которая гордится своими поэтами и писателями (первый в этом ряду — народный поэт Татарстана Габдулла Тукай), были связаны и знаменитые русские сочинители, давным-давно включённые в когорту классиков: Державин, Радищев, Пушкин, Герцен, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Гончаров, Толстой, Горький, Маяковский. Так, по крайней мере, рассказывали школьникам учителя на уроках русской литературы. Но в этот ряд никогда не включался Велимир Хлебников. Хотя он не был поэтом официально запрещённым, но всегда являлся неудобным, «никуда не встраиваемым». И это по меньшей мере несправедливо. Тот же Лев Николаевич прожил в Казани шесть лет; Александр Сергеевич провёл здесь всего три дня, а Владимир Владимирович трижды ненадолго сюда наезжал — в 1914, 1927 и 1928 годах.
Что же касается Хлебникова, то Виктор Владимирович (Велимир) отдал Казани почти треть своей недолгой жизни (1885–1922) — примерно десять лет: 1898–1908 годы. Хлебников пишет о Казани в письмах и дневниках. Казань является действующим лицом его поэтических и прозаических текстов. В этом городе он учился в гимназии и университете, впервые влюбился; создавал свои первые произведения. Именно из Казани в 1904 году В. Хлебников посылал свои первые произведения (пьесу «Елена Гордячкина») Максиму Горькому, который не без интереса и с сочувствием отнёсся к творчеству начинающего автора. Эта юношеская вещь девятнадцатилетнего Виктора, к сожалению, не сохранилась, но в архиве Горького, спустя много лет, обнаружилось сопроводительное письмо Хлебникова, в котором будущий поэт объясняет маститому писателю, что в этой пьесе он «поставил вопрос о нужности или ненужности брака».
В наше издание включены избранные стихотворения, поэмы, прозаические и драматургические сочинения, статьи и письма Хлебникова. Многие из них либо были написаны в «казанский» период его жизни (в основном в 1904–1908 годы), либо создавались уже после того, как он оставил Казань, но вдохновлены воспоминаниями о городе, где прошли его отрочество и юность. В разделах «Стихотворения» и «Поэмы» представлены и более поздние тексты, чтобы показать творчество Хлебникова в развитии: от самых ранних, юношеских, до сочинений 1922 года. Этот комментированный том сопровождается иллюстрациями и выпускается к 140-летию со дня рождения Хлебникова.
Леонид Липавский. Исследование ужаса
За последний год сочинения Леонида Липавского — философа, близкого к группе ОБЭРИУ, — были переизданы трижды, в разном составе и разными издательствами. Все три книги названы по самому известному его тексту, короткому трактату «Исследование ужаса». С чем связан такой всплеск популярности этого трактата, замечательного, но действительно сложного, мы сказать не берёмся, но, конечно, приветствуем его. Самое полное из этих переизданий вышло в издательстве Ad Marginem — где когда-то сочинения Липавского и появились впервые в виде отдельного тома. Мы попросили главу Ad Marginem Александра Иванова рассказать о Липавском и его книге.
Александр Иванов:
У нас в Ad Marginem Леонид Липавский первый раз выходил почти двадцать лет назад, в 2005 году. С этой книги и начался интерес к автору. Хотя до этого была публикация в журнале «Логос», в которую вошло примерно две трети из того, что мы включили в книгу — а включили мы всё, что известно (трактаты Липавского также публиковались в двухтомнике издательства «Ладомир» «Сборище друзей, оставленных судьбою». — Прим. «Полки»). И первое издание, и второе подготовил для нас Валерий Сажин, держатель рукописей писателя; в нынешнем переиздании есть небольшое дополнение и переработанный им комментарий. Надо честно признать: у нас нет специалистов по Липавскому. Совершенно непонятно, как к нему подступиться, потому что для этого нужно быть и филологом, и философом, и учёным-лингвистом. Похоже, пока никто не собирается им заниматься, хотя перед нами уникальная фигура даже на фоне невероятно талантливых обэриутов. Он настоящий мыслитель, причём обладающий литературным даром — меньшим, конечно, по сравнению с Хармсом и Введенским, но, главное, он ставил вопросы так, как их начали ставить примерно лет через пятьдесят после него. При этом удивительным образом Липавский ассоциируется с ранними греческими стоиками, с Зеноном, Клеанфом, Хрисиппом. Круг вопросов, которые его волнуют, напоминает те, что волновали стоиков: некая бессубъектная жизнь, способ интерпретировать мир, не прибегая к его разделению на материю и сознание. В этом смысле он похож не только на стоиков, но и на Спинозу.
У Липавского много и от философии Лейбница: например, интерес к переходу от математической к онтологической интерпретации мира. Так, в «Исследовании ужаса» он разбирает понятие пространства через фигуру одновременности и вариативности. В тексте, открывающем книгу, есть такая фраза: «В ресторане невольно задумываешься о пространстве». На мой взгляд, Липавский соединяет здесь пространство с рестораном потому, что в ресторанном меню есть одновременность присутствия всех блюд. В действительности мы употребляем блюда последовательно, но в меню все они представлены одновременно, и эта их одновременная вариативность, синхронизированное разнообразие отсылает, согласно Липавскому, к пространственному, а не к временному, характерному, например, для философии Канта, виду синтеза. Следовательно, не темпоральная последовательность, а пространственная одновременность образует семантическую структуру меню, его локальную онтологию. Это, впрочем, лишь одна из возможных интерпретаций.
Мысль Липавского также очень сильно инспирирована Зигмундом Фрейдом, хотя мы не знаем, читал ли он его работы, ведь он нигде напрямую на них не ссылается. Речь главным образом идёт о статье Фрейда, которая по-немецки называется «Unheimlichkeit» — в переводе на русский «Жуткое». В этой работе, написанной в 1919 году, Фрейд разбирает семантику слова «Unheimlichkeit», утверждая, что оно связано с понятием Heimat, родина, и heimlich — близкое, родное. Собственно, unheimlich, жуткое, ужасное, это то, что соприкасается с самым близким, родным, своим. Эта же связь волнует и Липавского: как ужасное обнаруживает себя в самом близком. Вот мы смотрим на человека, говорит он, вроде бы мы его знаем хорошо, он близок нам, и вдруг в его лице проявляется что-то, что никак не соотносится с этой близостью, в нём проступает какая-то иная пластическая энергия, нечто безличное, холодное, пугающее — чужое. Липавский прибегает к образам перистальтики, — например, движению мышц желудка, дальше его мысль включает в разбор какие-то слизистые органические формы вроде медузы или способ движения беспозвоночных, например червей. Его интересует, как психическая жизнь проявляет себя в различных формах моторики, как психика живёт по ту сторону сознания и привычных телесных форм. Это очень интересная тема — сейчас ею занимается довольно много исследователей: и с точки зрения экологии и этологии, науки о поведении животных, и с точки зрения человеческой психики, точнее, её предпосылок. Как психическое существует за пределами человеческого тела, как и что формирует биологические и социальные миры. Это волновало в 1920-е годы, например, Зигфрида Кракауэра, немецкого социолога и кинокритика, автора работы «Орнамент массы». Нам знакомы по советским фотографиям пирамиды и прочие конфигурации тел, которые составляли в те времена гимнасты на парадах, — Кракауэр считал, что в них следует искать ответ на вопрос, как организовано общество массы, создающее орнаментальные конструкции из человеческих тел. Это примерно тот же круг проблем и вопросов, которые ставит автор «Исследования ужаса».
Другой философ, с которым можно сравнить Липавского, — это Мартин Хайдеггер: его вопросы также носят онтологический характер. Для Липавского сознание, психика, язык — некие производные бытия, виды бытия, а не зеркала, дублирующие бытие.
Леонид Липавский — уникальный русский мыслитель и писатель, он, сильно опередив своё время, является (возможно, вместе с Михаилом Бахтиным), наверное, самым современным из русских мыслителей 1920–30-х годов. Читать его книгу лучше всего неторопливо, кусками, фрагментами. Одна из её частей посвящена, например, теории слов; другая невероятно интересная часть — это его записи гениальных разговоров с Введенским, Хармсом и другими обэриутами. Это совершенно фантастический материал, который говорит нам о том, что в конце 1920-х и в 1930-е годы в Ленинграде сложился удивительный круг мыслителей. Их ментальный, поэтический генезис до сих пор совершенная тайна для нас, они родились как бы из ничего, у них нет ни предшественников, ни наследников. Тем загадочнее и волнующе оказывается знакомство с их произведениями.
Юрий Давыдов. Глухая пора листопада
«Редакция Елены Шубиной» переиздала центральный роман Юрия Давыдова — крупнейшего советского автора исторической прозы, чьи книги в оттепельную и застойную эпоху говорили со своими читателями о многом за пределами их непосредственного предмета. Роман «Глухая пора листопада», названный строкой Пастернака, — это, выражаясь солженицынским языком, «опыт художественного исследования» о последних днях «Народной воли»: разговор о героизме революционеров и удушливом насилии тирании тут неотделим от темы революционного террора и его последствий. По нашей просьбе о «Глухой поре листопада» рассказывает писатель, лауреат премии «Русский Букер» Андрей Дмитриев.
Андрей Дмитриев:
Есть книги-пароли, и таковым был в самом конце шестидесятых и начале семидесятых годов прошлого века вышедший в 1968-м, последнем году оттепели, роман Юрия Давыдова «Глухая пора листопада». Это было время, когда тревожно и пристрастно мыслящие представители советского общества — лучшая и немалая его часть — всё глубже задумывались над катастрофическим итогом русской революции. Они, благодарные читатели романа Давыдова, опознавали друг друга в любой толпе — стоило им заговорить об этом романе.
Давыдов с огромной силой художественного убеждения предъявил нам революционное движение (не скрывая своего сочувствия к его героям, мученикам и идеалам) как тупиковый союз непримиримых врагов: менеджеров террора и охранки.
Роман по сюжету чрезвычайно увлекателен — и завораживает своей художественной тканью. Это проза, созданная методом «осязательной изобразительности». Городская среда и вся реальность 80-х годов XIX века явлена нам не как декорации некоторых событий исторической давности, но как живое, неумирающее, вечное Сегодня. В кинематографе есть понятие «эффект присутствия». Это когда зритель, словно забывшись, видит себя не в кинозале — но по ту сторону экрана, в глубине кадра. Читатель исторических романов Юрия Давыдова не оглядывается на историческое прошлое, но живёт в нём как буквально переживаемом настоящем.
Перед вами один из лучших русских романов XX века, созданный одним из лучших писателей — и страны, и века.
Забытая Тэффи: О «Титанике», кометах, гадалках, весне и конце света
После 1991 года к имени Тэффи в России вернулась слава — пусть и не такая громкая, как в начале XX века, когда она была самой популярной русской писательницей. Тэффи много раз переиздавали — и тем не менее нашлось довольно много текстов, которые не знали новых читателей больше ста лет: писательница много сотрудничала с газетами и журналами, и теперь «Альпина нон-фикшн» подготовила том её забытых фельетонов. По нашей просьбе об этой книге рассказывает Антон Нелихов — научный журналист и автор предисловия к «Забытой Тэффи».
Антон Нелихов:
Тэффи прославилась как автор юмористических рассказов. Они и сейчас переиздаются тоннами, а за бортом остаётся всё остальное: пьесы, отчасти стихи, а ещё громадное число её фельетонов, рецензий и эссе.
Всю свою литературную карьеру, более сорока лет, Тэффи писала в газеты, часто еженедельно, и обычно не рассказы, а фельетоны — жанр, ещё недавно совершенно забытый, но теперь возрождающийся в блогах.
Именно фельетоны стали фундаментом славы и основой литературного мастерства Тэффи. Книга «Забытая Тэффи» даёт возможность познакомиться с этой гранью её творчества.
Фельетоны были собраны в дореволюционной периодике специально для этой книги, в основном в газетном отделе Российской государственной библиотеки — «Ленинки». В книгу вошла почти сотня, и почти все они никогда не переиздавались, в том числе самой Тэффи. На самом деле это, конечно, избранное: в книге примерно треть опубликованных ею до 1917 года газетных материалов. И это «лучшее».
Среди фельетонистов Тэффи занимала место в первом ряду. На мой взгляд, первое. Она оставила бы позади и своего начальника по газете «Русское слово» Дорошевича.
Сегодня Тэффи наверняка стала бы блогером с миллионной аудиторией, и её приёмам можно только поучиться. С изяществом и юмором, с точным цепким взором она выхватывала из жизни образы и делала из них литературу высшей пробы. Хватало любого события: от «дела Бейлиса» и моды на футуристов до засилья гадалок и кабаре. Всё это превращалось в отличные тексты, которые спустя сто с лишним лет снова могут прочесть все желающие.