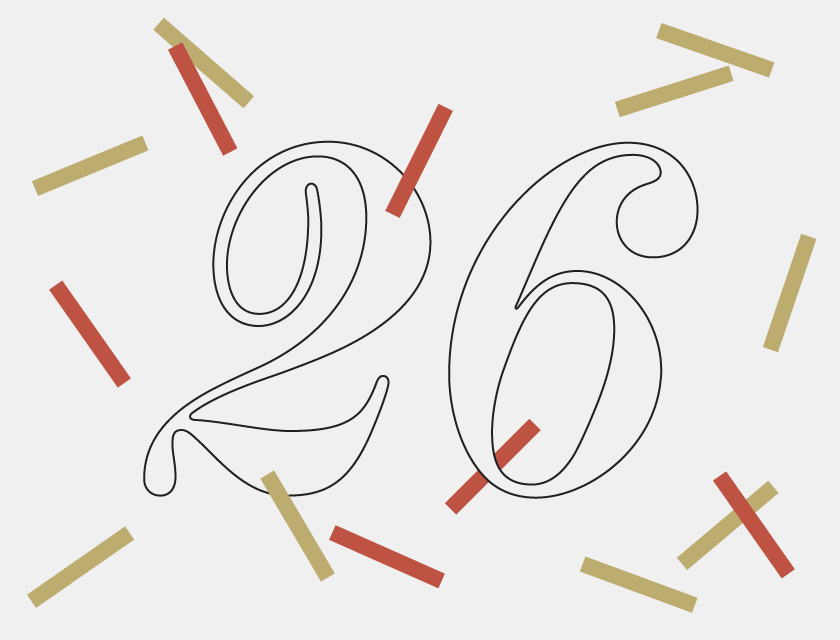Эксперт «Полки», писатель и культуролог Кирилл Кобрин узнаёт себя в несимпатичных персонажах Толстого, объясняет композицию «Героя нашего времени» скукой и ленью автора, сетует на скудость мысли в классических русских романах и признаётся в любви их неторопливому слогу.
Несколько недель назад Лев Оборин предложил мне поговорить на тему для меня довольно непривычную, но внезапно возникшую в моей жизни. Обстоятельства таковы. Один американский колледж пригласил меня прочесть семестровый курс под условным названием «Русский роман девятнадцатого века». Хотя я и не филолог, но согласился, понадеявшись, что получится поговорить не столько о «литературе», сколько о том, как — посредством «медленного чтения» — можно реконструировать социальный, экономический и даже идеологический ландшафт Золотого века. Собственно, романов шесть: «Герой нашего времени», «Мёртвые души», «Обломов», «Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Анна Каренина». Top of the Pops. Честно говоря, помимо всего прочего, я обрадовался возможности перечитать эти книги, некоторые из которых я когда-то знал чуть ли не наизусть, другие же читал много лет назад и один раз. С энтузиазмом я принялся за дело и на всё лето занырнул в русскую классику, помогая себе дополнительным чтением исторических и прочих сочинений. Результатом стало то, что я весьма неосторожно в переписке со Львом назвал «разочарованием». Так родилась идея нашего разговора. Лев прислал мне вопросы, я прочёл их и принялся было отвечать; однако довольно быстро понял: получаются не настоящие ответы, а связный текст, точнее — монолог, в котором переплетены мои реакции сразу на все вопросы. Потому мы предлагаем читателям довольно странную комбинацию: вначале идут все вопросы, а потом — моя реплика касательно большинства из них.
Кирилл Кобрин, 16.09.2019
Лев Оборин:
— Вы недавно рассказывали, что перечитываете русскую классику: «Разочарования много, очарования почти не осталось». Можно ли это разочарование свести к какому-то одному ощущению — и это ощущение определить? Или в каждом случае это отдельный разговор?
— «Очарования почти не осталось»: а можно ли воскресить это очарование в памяти? Что вас восхищало в классических русских романах XIX века?
— К русской классике принято относиться с пиететом, ставить её на пьедестал; «тронуть её не моги». А если, как это сделали вы, отступить от неё на некоторую дистанцию и сравнить с другими литературами: вообще, хорошо ли эти романы, на ваш взгляд, придуманы по сравнению с современными им книгами англичан, американцев, французов?
— Почему классический русский роман так сильно повлиял на западноевропейскую литературу (и так ли действительно сильно повлиял)? Что принесли русские, чего не было у тех же французов и англичан?
— Сохраняются ли следы этого влияния до сих пор? Вы собираетесь читать курс лекций о русской литературе в Америке; само наличие такого курса предполагает, что о русских романах кому-то хочется послушать и поговорить. Зачем их читают сегодня?
— Есть ли среди русских классиков те, кто особенно раздражает, кто упал с вашего личного умозрительного пьедестала особенно низко и показательно? И наоборот — те, кто устоял, кто ещё больше возвысился?
— Входит ли в ваше понимание русской классики советский период? Что в этот период произошло с «классичностью»? Как исказило советское понимание классики её современное восприятие?
Кирилл Кобрин:
Я не принадлежу к социальной категории, для которой русская классика — это то, что, так сказать, впитано с молоком матери, что даётся по умолчанию и проч. Бабушка с дедушкой, которые меня воспитывали, беллетристики — и тем более стихов — не читали; точнее, так: дед читал только «Правду», «Известия», «Советский спорт» и что-то такое ещё, бабушка была с большими культурными запросами, но на это у неё времени катастрофически не хватало. Книг дома почти не было, тем более — бастионов ПСС с быстро потемневшими, но основательными, надёжными переплётами 1950–60-х. Потому спрятаться за них было невозможно. В школе я тоже не читал почти ничего из программы, из упрямства, да и просто неохота и скучно. В общем, русская классика для меня стала открываться не в силу социальных и семейных обстоятельств, а волюнтаристски, что ли. С 18 лет я принялся (довольно хаотически) навёрстывать упущенное: «Идиот» соседствовал с «Игрой в классики», а «Война и мир» — с Маркесом и Кафкой. И надо сказать, тогда это соседство, это соперничество русская классика отлично выдерживала, — наверное, оттого, что мне равно были чужими и Аурелиано Буэндиа, и Андрей Болконский; интересными, но чужими. То есть к моей жизни они имели отношение опосредованное, даже не к повседневному жалкому существованию полунищего советского студента, а к вещам, которые меня занимали тогда, к кругу мыслей. Отсюда и появилось очарование. Вот есть же что-то такое совсем отдельное, которое прекрасно существует само по себе, в себе самом — хотя им и засрали, простите за выражение, мозги нескольких поколений советских людей, — и эффект данного феномена не слабеет, не кончается. Мощная штука! Почему мощная? Во-первых, она по большей части классно написана — я пытался читать современную мне советскую прозу, даже кое-какой андеграунд, но, за небольшим исключением, всё это были жалкие и нелепые детские штуки. К примеру, вечный совпис, тщательно вычёсывающий повторы из своих фраз, будто блох из шерсти любимого щенка… А вот Толстой и Достоевский или Гоголь — им вообще всё равно, и повторы есть, и вообще бог знает что, но у них живое — интонация, энергия, воображение! Любой абзац Толстого весит больше, чем ПСС условного Бондарева. Во-вторых, тут очарование дореволюционной жизни, которая нам, юным дуракам начала восьмидесятых, казалась идеалом. Даже не идеалом, а единственно возможной нормальной жизнью. На эту тему много говорилось, так что далее распространяться не буду. И у этой нормальной жизни была соответствующая нормальная литература — XIX век. И соответствующий литдесерт, сочный эпилог, пьяная вишенка на сверхкалорийном торте Золотого века — Серебряный век. А после — отстой скулосводящий. Наконец — и ощущение это становилось всё сильнее и сильнее с разворачиванием кризиса позднего совка и перестройкой — русская классика оказалась единственной твёрдой культурной валютой, единственной ценностью, не поставленной под сомнение; всеобщая девальвация её не коснулась, так она и стояла крепостью, с её стенами — томами ПСС, очень красивыми, надо сказать. От цвета обложки академического Достоевского можно с ума от счастья сойти. Хотя, конечно, содержание этих томов счастью совершенно не способствует… Да, и ещё запах старых книг, кстати тогда ещё не столь уж старых, всего 30–40 лет прошло между, скажем, 1958-м и 1988-м, но казались они из иного мира; так «высокое советское» наложилось на «высокое старое культурное русское».
Со временем некоторые причины очарования исчезли, например касательно пункта второго (не добавив, впрочем, в моём персональном зачёте очков советской литературе), но некоторые остались, трансформировавшись. Скажем, сейчас я не стал бы утверждать, что русская классика написана не про меня, что она чужая, хотя и интересная. С чем, кстати, и связано отчасти моё нынешнее разочарование. Классика была про других, но интересных; стала — больше про меня, но неинтересно. И потому, что я сам себе неинтересен, и потому, что ведь всё и так понятно с самим собой, не правда ли? Зачем читать толстенные тома? И когда дистанция сократилась, а кое-где и исчезла — в моём случае моя дистанция с героями Толстого, сегодня мне кажется, что добрая половина второстепенных персонажей «Войны и мира» будто с меня списана, причём скверных, нехороших персонажей, — стали обнажаться огрехи самой текстуры. Нет, не язык устарел. Наоборот, я не устаю восхищаться русским прозаическим языком домодернистской эпохи, до того как он стал горохом рассыпаться в скороговорочку, гармошкой растягиваться до потери связности и упругости, разрежаться, оставляя за собой одинокое невнятное бормотание в пустоте. Язык, неторопливый язык русской прозы позапрошлого века (Достоевский и Одоевский не в счёт) как был для меня эрзацем счастья, так и остался. Сколь я ни люблю английский, но этот для меня лучший. И тем не менее текстура русской классики оказалась покрыта трещинами, ржавчиной и кое-где дала течь — именно в том, что составляет основу любой настоящей прозы. Попросту говоря, в ней мало мысли. Рассуждений — полно. Мыслей — за небольшим исключением — маловато. Русскую литературу принято любить (на Западе и Востоке, не в России, где почти всем на неё наплевать) за её «серьёзность», за её «глубину», за её «духовность», прости господи. Насчёт последнего не скажу — я вообще не понимаю, что это, но вот с глубиной, помимо острого психологического проникновения, тяжеловато. Мысли были, конечно, рефлексия была, безусловно, и замечательная, но всё где-то в предместьях цитадели русской классики — у Вяземского, Чаадаева, Герцена. Особенно у первого и последнего. Они не разочаровывают никогда. А вот авторы даже как бы «идеологических» романов, вроде Тургенева, — расстраивают. Ведь если ты про идейные споры — ну поточнее, пожалуйста, повнимательнее, подумай, а не пересказывай беллетристическим языком политические брошюрки… Сейчас, перечитывая полдюжины образцово-показательных русских романов, я печалился по данному поводу изрядно.
Да и некоторые, особенно те, что когда-то ужасно нравились, оказались вообще в лучшем случае нелепыми, в худшем — посредственными. «Герой нашего времени» — чемпион в этом неодиночном забеге. Всё, что там есть хорошего, — устройство книги, наверняка не умышленное, а случайное, от скуки и лени сделанное. Писал Лермонтов урывками: надоело, одну вещь закруглил, сочинил ещё короткий текст, потом ещё один. Все разные. И тут приходит в голову — а почему бы не объединить всё в один роман, назвать его поинтереснее, а дробность структуры объяснить неоднозначностью характера героя, которого психологические особенности одним взглядом, и даже последовательным наблюдением, не объяснить. И вот вам роман. Называется «Герой нашего времени». Я не критикую, конечно, да и какой смысл критиковать молодого офицера колониальных войск, чья жизнь трагически оборвалась в результате friendly fire на вечернем рандеву в горах. Наоборот, мне нравится, что эта вещь так устроена. Читать последовательное описание похождений и мнений господина Печорина было бы тяжко. А так любительщина подражания общеромантическим стандартам скрывается за пикантной недосказанностью, саспенсом: а что же этот загадочный стервец ещё такого выкинул, где побывал, кого соблазнил, кого убил, кого оскорбил, какого ещё коня загнал насмерть. Кстати, перечитывая чуть ли не в десятый раз «Героя», я поразился довольно немудрёной мысли, даже ощущению: какой всё же жалкий и бездарный ублюдок этот Печорин. Тупой и опасный. Мистер Бин в нарядах денди: к чему ни прикоснется, всё ломается и рушится; тетёшкается со своим эго, как Бин с любимым плюшевым медвежонком. Только в отличие от английского дурака этот дурак ещё и больной — очевидно же, что Печорин страдает тяжкой формой маниакально-депрессивного синдрома, почитайте описание его характера в «Бэле». Клинический случай. Прочие не лучше. Добрейший Максим Максимович — военный преступник по сегодняшним меркам. Представляете, сколько аулов он сжёг за два с лишним десятка лет службы на Кавказской войне? Сколько мирных жителей были убиты его солдатушками-браворебятушками? Про остальные мужские персонажи и не говорю — Грушницкий, серб-фаталист, подлый контрабандист, бросивший слепого мальчонку. Женщины в «Герое» явно лучше мужчин (как и вообще в русской жизни; тут Лермонтов писатель истинно реалистический), но это обстоятельство тонет в потоках штампованной печоринской мизогинии. Нет, я не о том, что «Герой» — плохая книга, нет, это как раз неплохая книга своего времени.
Ещё одно сильное расстройство — «Обломов». Кто-нибудь вообще помнит, о чём на самом деле эта книга? Не первая глава, а вся книга? Нет, она не про то, как главный герой валяется на диване и ничего не хочет, только валяться. И не про его ретроспективную утопию, явленную во сне. И даже не про грубого и неопрятного слугу Захара, хама и умеренного вора, впрочем преданного. Роман раза в три-четыре больше первой главы, хотя она и очень объёмная, и там полно всего: любовь-морковь, хладнокровная подлость подьячих (совсем в духе «Дела» Сухово-Кобылина), много неуклюжей лирики, немного очень хорошего бытописания (это когда Обломов уже сдался и зажил припеваючи и приедаючи со своей квартирной хозяйкой), совсем никудышная попытка проанализировать якобы счастливую семейную жизнь Штольца с Ольгой, много чего ещё. Читать это тогда, возможно, было интересно, сейчас — почти невозможно. Гончаров имел совсем другой тип литературного таланта, «Фрегат «Паллада» отличная книга — именно потому, что а) в ней нет так называемого художественного вымысла и б) она написана от первого лица. Гончаров был монологичен, и единственный герой, который ему удался в романе, — альтер эго автора, Илья Ильич Обломов.
А вот порадовали Тургенев с Достоевским. «Отцы и дети» ведь тоже на самом деле не о том, о чём все почему-то решили — не о неторопливых стычках за обеденным столом в усадьбе Николая Петровича Кирсанова. Как раз первые несколько глав — самые слабые, а вот дальше Тургенев распрямляется, вдыхает полной грудью и, бросив к чертям идейные штуки, в которых ни бельмеса не понимал, пишет хороший тургеневский роман. «Преступление и наказание» оказалось гораздо менее водянистым, чем отпечаталось в моей памяти; христолюбивой болтовни тоже меньше, монолитный кусок параноидальной истерики, превосходно исполненный, в котором, к примеру, угадываешь будущего Кафку. Визит безумного Раскольникова в контору, где комнаты всё меньше и меньше, — это «Процесс». Или двусмысленные разговорчики о том, что есть вина, что можно и нельзя доказать и проч., да и сама идея «приговора» вкупе с «процессом»: Раскольников обречён (свыше приговорён) совершить убийство, а сама книга есть процесс над ним. Не «наказание», а «процесс».
Но это всё отдельные случаи. Общее разочарование действительно в скромном количестве и особенно качестве мыслей. Мыслей не радикальных, в духе Толстого, который увидит балет, или суд, или сражение и мгновенно перескакивает к крайнему утверждению, мол, всё это совсем не то, обман, ложь, вот вам голая правда, что ничего не нужно. И Гоголь такой же: чуть что, не выписывается психологический сюжет, не может справиться с собственными героями, а то и скучно становится писать «просто прозу», тут же происходит короткое замыкание — и автор принимается петь песни про Русь, тройку и прочее. У Достоевского вроде всё время разговаривают, но это не разговоры, конечно, это монологи и вопли. Даже чеховские герои туда же: поговорят о повседневном — и в лирическую истерику. Наверное, это есть свойство молодой, но стремительно развившейся культуры и литературы; не забудем, что между «Бедной Лизой» и «Мёртвыми душами» — полсотни лет. Догнали Европу и обогнали, но самого главного — культурных, социальных, философских пейзажей по обе стороны дороги — почти не заметили, не пережили, не прочувствовали. Только сейчас мне, тугодуму, стало понятно. Это литература большого культурного скачка — почти вся. Пушкина, конечно, в виду не имею. Он и здесь стоит особняком. Он и первопроходец, и постепеновец. Не очень умеренный в жизни, он удивительно умерен в прозе.
Отсюда, думаю, огромное влияние, которое русская классика (но не Пушкин) оказала на европейскую литературу (и культуру вообще) прошлого века: притягательность быстрых окончательных выводов, резких моральных жестов, которые ни Бальзак с Флобером, ни Диккенс с Теккереем позволить себе не могли, да и не хотели. Плюс очарование затонувшей Атлантиды русской дореволюционной культуры и жизни — если во времена советских мордоворотов смотреть на русскую классику откуда-нибудь из Парижа, или Лондона, или Нью-Йорка.
Но — и тут я возвращаюсь к своему личному сегодняшнему опыту — это же всё не для меня и не про меня. Потому чтобы рассказывать своим американским студентам о «Герое нашего времени», «Мёртвых душах», «Обломове», «Отцах и детях», «Преступлении и наказании», «Анне Карениной», нужно настроиться соответственно, временно занять другую точку отсчёта, поставить кафедру где-то между двумя мирами, тщательно соблюдая дистанцию, но пытаясь не прервать связь, в том числе — и это очень важно — эмоциональную связь. Не уверен, что это возможно, но пытаться надо. Очарование истаивает, его место постепенно занимает рефлексия/авторефлексия. По крайней мере, надеюсь, что так оно и есть.