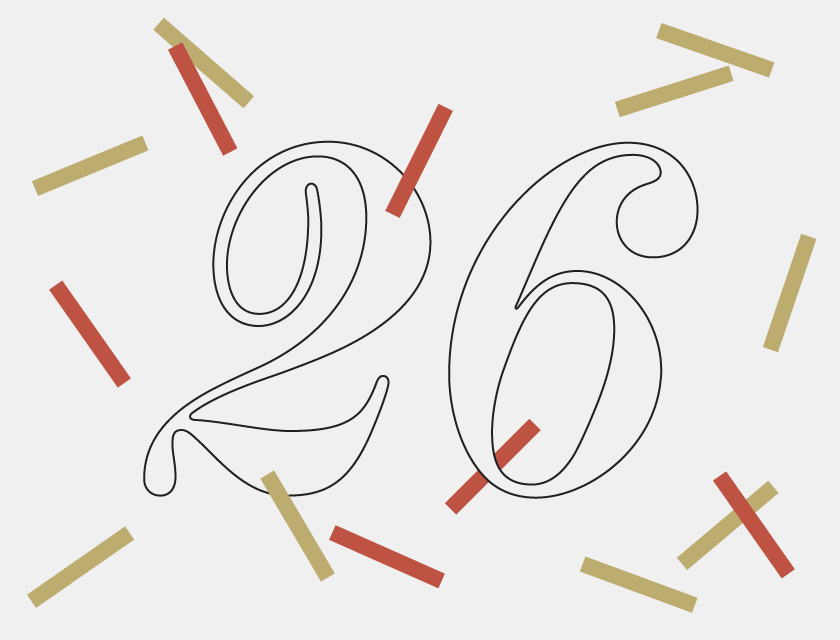Игорь Михалев. РИА «Новости»
19 августа мы отмечали 30-ю годовщину путча 1991 года, предрешившего распад СССР. В 90-е годы в России наступила новая жизнь — это коснулось и литературы, которая с запретом цензуры перестала делиться на официальную и андеграундную. Шла лавина публикаций, в том числе запрещённых прежде классиков, появились независимые издательства и книжные магазины, поэтические слемы. «Полка» решила расспросить активных участников литературного процесса 90-х о том, как это было. Герой первого интервью — Лев Рубинштейн.
Natalia Senatorova
В 90-е годы в России началась во многих смыслах новая жизнь — можно ли это сказать и о литературе? С какого момента начался для вас современный литературный процесс?
Современный литературный процесс начался для меня гораздо раньше, чем в 90-е, примерно в середине 70-х. Я как эгоцентрический человек, понятное дело, ставил в центр этого процесса и себя, но не одного себя, а некую литературную компанию, сложившуюся к тому времени. Для меня этот процесс в большой степени характеризовался приметами не столько стилистическими, сколько социально-культурными: современный литературный процесс для меня прежде всего был самиздатским. «Москва — Петушки», которые я прочитал где-то в 1970–1971 году, чуть позже — «Школа для дураков», плюс тот процесс, в котором находились мои друзья-поэты — и я среди них.
Понятно, что вы жили неподцензурной литературной жизнью, которая началась гораздо раньше, но что-то же для вас изменилось с упразднением цензуры?
Изменилась скорее не сама литература, а формы и способы её бытования. Произошла её легализация. Потому что мы вполне комфортно существовали без всякого Гутенберга до конца 80-х — я впервые был опубликован на родине в 1989 году. Можно сказать, что это уже были 90-е. У меня есть анекдотическая история про литературный процесс и путч, тридцатилетие которого мы сейчас отмечаем. Буквально на следующий день после событий 21 августа я встретил на улице одного знакомого стихотворца. Он говорит: «Привет! Ты ТАМ был?» Я говорю: «Да, был». — «Слушай, я сейчас собираю сборник под названием «Поэты на баррикадах», будешь участвовать?» Я говорю: «Не-а». — «А почему?» — «Во-первых, мне название не нравится, во-вторых, я не был на баррикадах, я просто стоял в оцеплении». Насколько мне известно, сборник не вышел. Но это первое дуновение так называемого литературного процесса непосредственно после событий.
Ulrich Baumgarten via Getty Images
Всё советское время параллельно с вами продолжала существовать официальная, подцензурная литература. Вы с ней как-то пересекались? Или в принципе её игнорировали?
Во время, о котором мы говорим, понятия «официального языка» уже как бы и не было. В начале 90-х годов, после «величайшей геополитической катастрофы», как президент Путин назвал распад СССР (попутно скажу, что для меня «величайшей геополитической катастрофой» как раз было столь долгое существование СССР), продолжали жить и что-то писать эти официальные авторы, продолжали существовать какие-то пыльные газеты… Я как раньше ими не интересовался, так и не начал. Не хочу бросать комья в сторону толстых журналов, потому что там печатались мои друзья. Я всегда недолюбливал толстые журналы, они и были, и есть отголоски советского литературного быта.
Но в своё время они же были и для вас проводником чего-то нового? Солженицына печатали. Ведь толстый журнал был окном, через которое можно было пропихнуть что-то время от времени?
Смотря когда! В 60-е — да, разумеется, я читал «Ивана Денисовича», я читал «Новый мир», читал журнал «Юность» — это был мой любимый журнал тогда, потому что он мне, старшему школьнику, казался очень прогрессивным. Там был Аксёнов, Окуджава, всё было интересным, всё нравилось. Но этой болезнью я недолго болел.
Но не в 70-е и не в 80-е?
Нет. Я этих журналов даже в глаза не видел в 70-е.
Зато в 90-е появились и совсем новые формы бытования литературы, достигшие расцвета в клубе «Проект О.Г.И.», например.
Это было позже. С середины 80-х (а стилистически это, можно сказать, были уже 90-е годы) появлялись такие странные институции, как, например, клуб «Поэзия», возникший в 1985 году. Туда я тоже ездил, это было всё в новинку: был такой странный период, когда неофициальным поэтам и литераторам уже стало можно выступать, читать публично. И именно в те годы возникла известная группа «Альманах»: нас ещё не печатали, но уже можно было выходить на сцену. Такое странное, межеумочное было время. Очень скоро уже стали и публиковать, и книжки появились. Моя самая первая публикация (их было несколько подряд в 1989-м) была в старом журнале «Литературное обозрение», её инициатором был мой приятель Андрей Зорин, который написал к моим текстам замечательное предисловие. Называлась публикация, что важно: «Лев Рубинштейн. Из неизданного».
Как у Козьмы Пруткова: «d'inachevé», «из неоконченного».
Это было, с одной стороны, чистой правдой, а с другой стороны, налёт некоей посмертности в этом присутствовал. Это была моя первая публикация на родине, ровно через 10 лет после первой публикации на Западе. Не думаю, чтобы 90-е в смысле литературы сильно отличались от конца 80-х. Ну возникали новые институции и журналы. Но по моим наблюдениям, к середине 90-х главной литературой в нашей стране была не собственно литература, то есть не проза и не поэзия, а газетная критика — и вообще газеты. Начиная с первого путча и последующих политических событий все читали газеты. Чуть позже, в середине 90-х, возник журнал «Итоги». И вообще журналистика стала литературой.
В вашем случае — в прямом смысле, вы же переключились с поэзии на журналистику?
Я был одним из многих, да. Потому что туда пошли историки, филологи, писателей было много… Меньше всего там было людей с дипломами журналистов. И возникло то, что я стал называть «периодической изящной словесностью». Были там яркие люди. Я помню, что мой тогдашний приятель Слава Курицын был тогда на невероятном пике своей литературной карьеры…
Я решила стать критиком из-за его текстов!
Ну вот. Он был очень ярким. И он в полемическом азарте выдвинул такой тезис (была даже статья, манифест — не помню где, может быть в газете «Сегодня»): писатель — он что, он всего лишь пишет буквы. Настоящую роль в литературе играет критик. Ты, писатель, давай пиши и помалкивай, а наше дело уже — тебя разбирать, оценивать, о тебе писать. И ты в нашу критику не лезь, не твоё дело. Написал — и сиди. Такая была идея.
Это был некоторый полемический перехлёст. Многие писатели очень возмутились, спорили с ним. А мне это не только было понятно — я во многом и соглашался.
Это была идея, естественная для постмодернизма.
Естественно. Но я, помимо этого, склонен был возвышать роль критики, потому что я был человеком концептуалистской школы, а концептуализм, строго говоря, критика и есть. И критика, и концептуальный текст — это текст о тексте, вообще говоря. Только концептуалистский текст — это текст о воображаемом тексте, а критический текст — о реальном.
Ну не всегда этот текст воображаем. Иногда он прямо взят откуда-нибудь, как в романе Михаила Шишкина.
Ну да, хорошо. Но тогда «текст о тексте» прямо висел в воздухе. Не то чтобы это была новинка, эта линия всегда была в литературе — взять хоть «Рукопись, найденную в Сарагосе», и вообще этого было много. Но тогда она была ведущей.
Литературная примета 90-х. Тогда же появился премиальный процесс, которому уделялось исключительно много внимания.
Премии появились, но я всегда к ним настороженно относился. Не только потому, что я как автор не очень «премиеёмким» оказался (такова особенность моей поэтики). У нас вообще не сложился институт премий. Замечательно, что он есть, потому что писатель — живой человек, ему деньги нужны, он время от времени встаёт из-за стола и говорит: «Божество моё проголодалось!» А жена говорит: «А где деньги, чтоб картошки купить?» — «А вот мне скоро премию дадут! А с «Нобелевки» я тебе вообще шубу куплю! Норковую!» — говорит писатель, а жена на него в этот момент косо и недобро посматривает.
Но я не очень люблю институт премий, так же точно, как все серьёзные, с моей точки зрения, музыканты ненавидят конкурсы — включая и тех, которым на конкурсах везло. У меня есть дружок Антон Батагов, замечательный пианист, который совсем юным стал каким-то большим лауреатом конкурса имени Чайковского. Потом он не только возненавидел конкурсы, а вообще фортепианное искусство на много лет забросил, стал композитором. Сейчас снова играет.
Потому что это как Олимпийские игры?
Ну потому что это вообще какая-то ложная штука. Она к музыке не имеет отношения, это спорт.
Но если не иерархия, то «карта местности» в литературе существует, и премии, как и критика, помогают ведь её размечать?
В России критика, к сожалению, что-то значит внутри очень узкого круга, культурного сообщества. Я мало занимался критикой, но когда служил в «Итогах», писал какие-то рецензии и даже обзоры, хотя никогда не любил этого. И однажды в книжном магазине у меня был, что называется, «момент истины»: я увидел дядьку среднего возраста, который ходил по магазину со страничкой, вырванной из журнала, — с моим обзором! С одной стороны, мне это понравилось, с другой — я ощутил какую-то повышенную ответственность: оказывается, от меня зависит, кто что купит. Ничего себе! Но потом я это бросил.
Почему?
Ну не нравится мне этот жанр! И потому что я внутри процесса, и потому что мне мало что нравилось. Я написал несколько текстов о друзьях. У меня был принцип особо не писать ругательных рецензий, а хвалебные скоро кончились.
Даже похвалить было нечего в те изобильные времена?
Ну я ещё и ленивый читатель. И я от отчаяния — я тут это слово употребляю в позитивном значении — случайно придумал себе жанр. И этот жанр стал рубрикой в журнале. Назывался «Разговоры запросто». Страницы две, на разворот, такие маленькие текстики ни о чём — просто разговоры. То, что я любил всегда и люблю до сих пор. Вообще я считаю, что лучшая проза — это застольный трёп (когда люди умеют трепаться, конечно). Интересно, что примерно в те же годы, когда стала расцветать газетно-журнальная проза и колумнистика, жанр устного рассказа стал практически исчезать, потому что все забавные истории или смешные воспоминания шли в дело. Элементы такого трёпа были и в газетной художественной критике, и это мне всегда нравилось.
А этот расцвет журналистики был связан с тем, что она на тот краткий период стала восприниматься как «четвёртая власть»?
Было много читателей. И была немаловажная экономическая мотивация: там платили. Я однажды месяца два проработал в «Эсквайре». И помню, что приходил туда как-то за гонораром мой давний знакомый, великий переводчик Виктор Голышев. Он сказал: «Надо же, я тут перевёл какой-то рассказик на две странички и получил за него больше, чем за роман в издательстве!» А я впервые об этом узнал ещё до того, как стал работать в медиа. В 1994 году, когда я жил в Германии, там вышла книжка моей поэзии в переводе. Тысяча экземпляров всего, но все ведущие газеты об этом что-то написали. Можно было считать это успехом, почему нет? Хотя и не коммерческим. И какой-то критик написал о моей книжке большую статью в Süddeutsche Zeitung, с моим портретом. Он меня тихо спросил: «А какой гонорар вам заплатили?» Я говорю: «Столько-то». А он со стыдом признался, что за рецензию получил в три раза больше. То есть я ещё и его прокормил.
А какие у вас впечатления об эволюции русской литературы с тех пор? В обстановке относительной свободы и отсутствия необходимости делиться на официальную и неофициальную?
Это, кстати, скоро может миновать. Не то что я этого хочу, но я к этому готов.
Вы к этому готовы гораздо лучше, чем авторы, начинавшие в 90-е или позднее.
Я даже написал пару колонок на эту тему в разных местах. Поделился опытом полуподпольной жизни в условиях тотальной цензуры — если кто не захочет её учитывать, то есть способы, есть опыт старших товарищей.
А какая новая литература появилась в 90-е, которая вас порадовала? Петрушевкая, Сорокин — были задолго до. Пелевин вот начинал в 90-е.
Он мне никогда особенно не нравился. Но я отдаю ему должное: считаю, что у него огромная культурная роль. Мне кажется, что он заставил читать книги многих из тех молодых людей, которые никогда их не читали. А это серьёзная роль. Я когда-то читал, что однажды футболист Пеле получил медаль от бразильского Министерства образования за то, что он написал книгу воспоминаний «Я — Пеле», и чтобы её прочесть, несколько миллионов человек научились читать. Он же был абсолютный национальный герой.
С перестройкой у нас в литературе открылся шлюз — начали печатать всё, что до того было нельзя: в этом смысле для вас что-то изменилось?
Публикаторский бум начался уже в конце 80-х. Тогда толстые журналы как раз сыграли новую и очень важную роль, потому что там появилось всё: и Солженицын, и Шаламов, и Домбровский, и «Школа для дураков»… Другое дело, что я-то лично всё это уже и без них читал. Но надо же не только о себе думать.
А не было ощущения, что трудно на этом поле конкурировать?
Нет. И я, и мои известные близкие друзья — поэты и писатели — в те годы уже сформировались не только как авторы, но и как социально-культурные феномены. Никогда мы ни с кем не конкурировали, включая друг друга. Между прочим, это уникальное содружество! Поверьте, это абсолютно нетипично. Ну говорят, что обэриуты такими были — возможно. Дружили, не завидовали ничему… Правда, все жили в одинаковой нищете. Кстати, мы тоже, хотя это была не та нищета, когда есть нечего. Нет, всегда друг друга любили, поддерживали, очень радовались любому успеху.
И у вас уже был свой читатель, которого не нужно было ни с кем делить?
В том-то и дело. Никакой не могло быть конкуренции, потому что и я, и друзья мои (мы с ними много раз это обсуждали) выросли с ощущением некоторого высокого отчаянья. Не такого отчаянья, когда хочется на себя руки наложить, а в том значении, в каком говорят «отчаянный поступок». Мы ничего не ждали от внешней среды. Считалось, что 15 человек — это очень хорошая аудитория, потому что это же какие 15 человек! Но потом аудитория стала резко количественно расти, и это было неожиданно. Я считаю, что меня читает гораздо больше людей, чем я — не буду говорить «заслуживаю» — мог рассчитывать.
Аудитория стала резко расти, просто потому что книжки стали выходить?
Книжки стали выходить, выступлений было много, а потом уже появился интернет, но для меня это не 90-е годы, а уже нулевые.
Вы жили при Совке в своего рода изоляции от внешнего, даже от удалённого читателя, не входившего в ваш круг, и от мирового литературного процесса — тут что-то изменилось?
В 90-е как раз пошло всё косяком… Для меня, для многих моих друзей и коллег изоляция не была полной — мы всё равно что-то узнавали. Другое дело, что это узнавание было очень лоскутным, очень фрагментарным: мы скорее слышали о чём-то, чем читали это. В моём поколении никто почти языками не владеет. Но я помню, ещё в 80-е был у меня друг Иван Чуйков (к сожалению, недавно умерший), замечательный художник. Он был сыном художника-академика, тоже Чуйкова, автора картины «Дочь Киргизии», соцреалиста. И тот был выездным. А Ваня был жутким авангардистом. И его папа иногда привозил какие-нибудь альбомы или каталоги по современному искусству. Ваня, как сын академика и как мальчик из хорошей семьи, английский немного знал. И у Вани собирались друзья-художники — Кабаков, Булатов, Пригов — и я, рассматривали эти альбомы, а Ваня читал к ним предисловия и переводил. Это было то ещё образование. Иногда в журнале «Иностранная литература» вдруг появлялся материал про немецких «конкретистов», поэтов 60-х годов.
То есть не так уж бесполезны всё же были толстые журналы?
Конечно, что-то проскакивало! Плюс тамиздат.
Вот вы стояли в оцеплении Белого дома. При этом в своём творчестве вы и ваши друзья политике внимания не уделяли. Не появился ли у вас литературный, в частности, к ней интерес в тот недолгий период, когда она у нас была и вселяла какую-то надежду?
Мы ею не интересовались непосредственно в литературном творчестве. Но разговоры об этом вели постоянно, ещё и в советские годы. Ну как жить без политики? Если говорить о том, проникла ли политика в тексты, — у кого как. Я в какой-то момент разделил. Я писал всякие эссе и колонки: я всё равно не называю их политическими, но там было много, скажем так, социальных мотивов. В поэзии этого не было (если и было, то очень глубоко). Я при Совке прожил 40 с лишним лет. Достаточно долго, чтобы сформироваться. Не могу сказать, что я не менялся: менялся, но не структурно. Фактурно. Ситуативно менялся вместе с новыми медийными возможностями. Просто мы перетекли в новую информационную эпоху.
Alain Nogues/Sygma/Sygma via Getty Images
А как новые медийные возможности влияют на литературу?
Могу только сказать, что, безусловно, влияют, но не могу сказать — как. В этом важное отличие автора от критика: я из тех, кто не может сказать — «борода поверх одеяла или под». Есть такой анекдот или притча — человека с длинной бородой однажды спросили: «Вы когда спите, у вас борода под одеялом или поверх одеяла?» И он потерял сон, потому что стал на это обращать внимание. А так-то — спал себе и спал. Мне кажется, что это не вполне задача автора — решать, что там на что повлияло. Мы говорили про 90-е, когда главной литературой была газетно-журнальная проза, но если взять нулевые и сегодняшние дни, то сейчас я скажу, что главная литература — это соцсети. В которых я сам активно участвую.
Но это коллективная литература.
А литература вообще всегда коллективная. Потому что литература — это не только корпус текстов: это и система критики, и читатели… При наличии рынка — это продажи. И все сюжеты, включая премиальные, это всё литература и есть.
А вас не травмирует после тех прежних 15 качественных читателей столкновение с так называемым широким читателем в соцсетях?
Я к этому отношусь очень смиренно. Что называется, знал, на что иду. Что касается соцсетей, то это не от малодушия или трусости, а от повышенного ощущения гигиены — я очень мало кому разрешаю комментировать. Я это на самотёк не пускаю. Есть любители почитать, что про них пишут, — я не из их числа. К вопросу о сетевой прозе: в «НЛО» недавно вышла книжка «Кладбище с вайфаем», составленная из моих фейсбучных текстов. Хотя я всё время и говорю о газетах, социальных сетях, но книжки мои выходят, и я этому очень рад. Книжка — это не только книжка, которую кто-то купит и прочтёт или я кому-то подарю (а это хороший подарок, между прочим!). Для меня книжка — это ещё и тест. Я все свои газетно-журнальные или сетевые тексты сам оцениваю по двухбалльной шкале: «Включу в книгу» или «Не включу в книгу». Книгой проверяется текст. Во-первых, там другой контекст. Потому что в медиа твой текст находится среди чужих.
И, кроме того, там на него работает инфоповод, который придаёт ему интерес.
Там с ним рядом другие тексты, какая-нибудь вёрстка, какие-нибудь, не дай бог, иллюстрации или картинки… «Итоги» были иллюстрированным журналом — я добился какого-то уважительного отношения, но картинка довлела, она была главнее текста, который иногда нужно было сокращать в полтора раза, потому что она не влезала. А в книге все тексты вступают в контекстуальные отношения друг с другом. Но это совершенно другая история. Прочитать книгу — это совершенно другое, чем прочитать отдельный текст. Книга для меня — это такой экзамен.
То есть вы не очень доверяете литературе, живущей целиком в интернете?
Нет, я доверяю! Книга тоже литература, но не единственная.