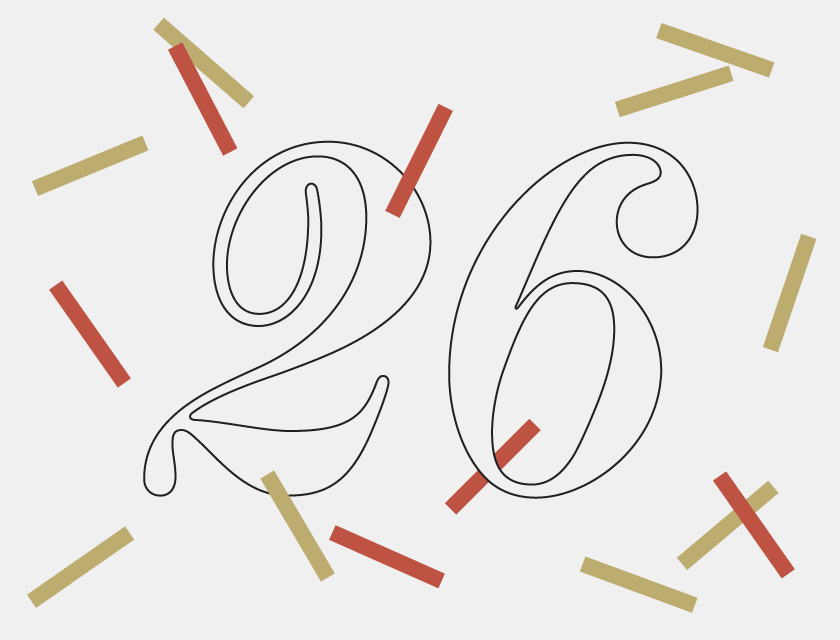non/fiction 2020: выбор «Полки»
Конец года для российской книжной индустрии — время главного смотра новинок, ярмарки non/fiction. Но этот год — особенный: «физическую» выставку пришлось перенести на март 2021-го, а 5–6 и 12–13 декабря non/fiction пройдёт в режиме онлайн. Нас ждёт марафон выступлений и лекций авторов из разных стран — хедлайнеров издательств. И, конечно, традиционно составляются списки главных новинок — которые вы по-прежнему можете купить. «Полка» составила свой список: 20 близких нам по духу книг, которые закрывают 2020 год и могут скрасить вам его завершение!
«А упало, Б пропало…» Словник советской цензуры
Международный
Мемориал
1
Международный Мемориал внесён Минюстом в реестр, предусмотренный п. 10. ст. 13.1 ФЗ «Об НКО».
В 2019 году в «Мемориале» прошла выставка, посвящённая фактам и артефактам советской цензуры; сейчас по материалам выставки составлена и выпущена книга. Цензура и сопротивление цензуре — две существеннейшие части советского культурного процесса — представлены здесь от А до Я. А — акт изъятия рукописи: приведён протокол обыска, в ходе которого у Василия Гроссмана отобрали роман «Жизнь и судьба»; Я — «Яуза», магнитофон, с которого слушали Высоцкого, Окуджаву и Галича: последний прославил «Яузу» в песне «Мы не хуже Горация». Ленинский Декрет о печати и монструозный Главлит, спецхран, ликвидированный только в 1990 году, и фоторетушь, с помощью которой со снимков убирали «врагов народа», редактор и худсовет, искажавшие книги и фильмы, — всё это здесь, с иллюстрациями и краткими словарными справками. К книге приложена хронология основных событий в истории советской цензуры с 1917 по 1991 год. Полезное издание, к которому уже давно назрело «постсоветское» продолжение. — Л. О.
Наталья Пушкарёва, Анна Белова, Наталья Мицюк. Сметая запреты. Очерки русской сексуальной культуры XI–XX веков
Новое литературное обозрение
Издательство «Новое литературное обозрение» запустило серию «Гендерные исследования», сразу очертив её масштаб: от переиздания классической работы историка культуры Натали Земон Дэвис «Дамы на обочине» до новой коллективной монографии историков и антропологов Анны Беловой, Натальи Мицюк и Натальи Пушкарёвой «Сметая запреты. Очерки русской сексуальной культуры XI–XX веков». Эта книга — одно из первых масштабных исследований «неудобной» темы в России — разворачивает историю представлений о женской сексуальности с допетровских времён до начала советской эпохи. Опираясь на широкий круг источников — от церковных епитимий до эгодокументов, авторы рассказывают, как проходили обряды «умыканий» и «игрищ» и как общество относилось к «несоблюдихам», когда появился концепт чайлдфри и какие способы практиковались для избежания беременности, почему Достоевский, Толстой и Чехов стали апологетами эмансипации, а Любовь Менделеева-Блок открыто избегала материнства. — Е. П.
Брайан Бойд. По следам Набокова
Symposium
Брайан Бойд — автор знаменитой биографии Владимира Набокова, которая уже 30 лет остаётся самым авторитетным источником сведений о жизни и книгах русско-американского классика. Но не только: Бойд — эрудированный читатель-следопыт, наделённый счастливой способностью одновременно уделять пристальное внимание частностям и подниматься до обобщений; он одинаково комфортно чувствует себя и в роли узкого специалиста, не боящегося работы в поле, и в качестве популяризатора, презентующего автора «Дара» широкой публике. В этот сборник вошли тексты Бойда, которые представляют обе его ипостаси: рассуждения о набоковской метафизике соседствуют с разбором первых глав «Машеньки» и «Прозрачных предметов», эссе о драматичном превращении Сирина в Набокова — с попыткой сопоставить «Анну Каренину» и «Лолиту». — И. К.
Филипп Дзядко. Глазами ящерицы. Дневник чтения одной несуществующей книги
Новое издательство
Вместе с книгой воспоминаний Михаила Айзенберга «Это здесь» в Новом издательстве вышла небольшая работа филолога и главного редактора «Арзамаса» Филиппа Дзядко. «Глазами ящерицы» — предельно личный читательский дневник 21 стихотворения Михаила Айзенберга. Полученные осенью 2014 года по электронной почте и никогда не публиковавшиеся единым сборником, они становятся основой для рассуждений о зримом и невидимом, интимном и политическом, о действительности, создаваемой языком, особой поэтической интонации и умении айзенберговских стихов «чуять воздух» — фиксировать изменения в атмосфере, которые читатель ощущает скорее спиной. Строчка за строчкой Дзядко разворачивает стихотворения Айзенберга, интерпретируя написанное и «дочитывая» недосказанное. Такой подход — скорее проживание, чем чтение поэзии, — предлагал Григорий Дашевский. «Это мой вопрос. Вернее, у меня есть такой же вопрос. Это я не знаю, кто я. И это я ничего не знаю о мире. Возможно, поэтому я здесь: стихотворение, даже если оно о снимке или ящерице, оно всегда обо мне, о нас», — пишет Дзядко. Так, ящерица, возникающая в первом стихотворении — «Ящерица, та, что на припёке, / поднимает мизерное веко. / Видит восходящие потоки, / принимает их за человека», — показывает возможности новой оптики, становится инструментом остранения для познания себя. Это мы смотрим «глазами ящерицы», пытаясь уловить колебания воздуха и «принять себя за человека». — Е. П.
Александр Жолковский. Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа
Новое литературное обозрение
Лингвист, филолог и писатель Александр Жолковский в литературоведении последовательно занимается «демифологизацией» русских писателей, изучением и развенчанием культа Маяковского или Ахматовой, а в прозе — своеобразной мифологизацией самого себя как литературного персонажа. «Виньетки» — самолично изобретённый жанр на стыке новеллы, мемуара, дневниковой записи и автобиографического анекдота — Жолковский создаёт многие десятилетия; в книге «Все свои» 60 из них собраны под одной обложкой (вошли сюда и два новых рассказа). Герои Жолковского — мировые величины, такие как Надежда Мандельштам или Умберто Эко, коллеги, друзья юности или бывшие жёны и возлюбленные; жизнь нечувствительно перетекает в литературу, литература — в литературоведение, литературоведение — в жизнь. «В виньетках врать нельзя. Ограничение не столько этическое, сколько жанровое», — утверждает Жолковский, но тут же поясняет: это не значит, что всё написанное в виньетках следует принимать за чистую монету. Виньетка составляется «как мозаика, из осколков правды». Неудивительно, что при такой откровенности и свободе обращения с материалом героев и героинь своих литературоведческих и эротических приключений автор нередко шифрует и не всегда считает нужным специально показывать им результат. — В. Б.
Эмилия Кислинская-Вахтерова. Дневник учительницы воскресной школы
Common Place / Вздорные книги
В издательстве Common Place появился импринт «Вздорные книги»: дизайн обложек точно копирует одну из знаковых позднесоветских серий «Забытая книга», и это не случайно — тексты, которые импринт возвращает читателям, находятся не то что на периферии истории литературы, а далеко за её пределами. Первая книга — роман Ивана Шкотта о жизни дворянских детей в первые советские годы, «белогвардейская «Республика ШКИД», вторая — «Дневник учительницы воскресной школы» Эмилии Кислинской-Вахтеровой, деятельницы народного просвещения (принадлежавшей к либеральному, «культурническому» крылу движения народников). Кроме дневника в книгу входят обзорные статьи Кислинской по истории вопроса и другие сочинения, обобщающие её педагогический опыт: учительница преподавала и в мужских, и в женских заведениях, а когда стала матерью, начала записывать наблюдения за своими детьми.
Под воскресными школами подразумеваются не духовные, а светские учреждения, где в выходной день обучались взрослые люди: по замечанию Кислинской, в конце XIX века Россия занимала одно из последних мест среди «цивилизованных стран» по уровню грамотности. Ходили туда, впрочем, и дети — класс по составу напоминал бурсацкий, где вместе с десятилетними обучались и великовозрастные лбы. Перед нами дневник человека, свято верящего в необходимость просвещения: на протяжении двух лет, с 1889-го по 1891-й, учительница ведёт учёт приходящих, характеризует коллег и учеников («Он любит школу до того, что плачет, когда грозят его выключить, — за это можно ухватиться. Его грубость можно победить лаской, его ложь и маленькое воровство — доверием»), цитирует их сочинения и стихи, радуется за их успехи и огорчается, когда кто-то бросает учёбу, гадает, как говорить с учениками о религии, сталкивается с непониманием — многие стереотипы «об училках» и гуманитарном образовании появились задолго до советской школы. Трогательнее всего здесь тяга подопечных Кислинской к учению, чуть ли не драка за книги, искренние отношения с учителем, который становится поверенным не только в учебных, но и в житейских делах. Вообще эта книга — скромный памятник неравнодушию. Дневник Кислинской, прожившей, кстати, очень долгую жизнь и заставшей совсем другую школу, — это окно в совершенно забытый мир. Состав предметов, круг чтения, педагогические методы — мы будто смотрим на разрушенное здание дореволюционной педагогики, педагогической этики — от которого, однако, остался фундамент. — Л. О.
Кирилл Кобрин. Призраки усталого капитализма
Кабинетный учёный
Сборник разрозненных эссе, герои которых — Джордж Оруэлл, Деймон Албарн, Стивен Пинкер, архитектурный критик Оуэн Хэзерли, рижская арт-группа «Орбита», автор книги «Capital Is Dead» Маккензи Уорк, песня группы The Kinks «Waterloo Sunset» —объединены общей темой: состоянием современности (иначе говоря, позднего капитализма). Как заметил философ Марк Фишер, проще представить конец света, чем конец капитализма: к началу XXI века мы оказались в вечном настоящем, воспроизводящем себя, несмотря на множественные течения, пытающиеся указать выход из этого тупика. Каждое из них заводит в свой тупик: правый популизм паразитирует на ностальгии по патриархальному имперскому величию, поп-ретромания — на ностальгии по временам, когда прогрессистские устремления в будущее ещё не потеряли своей силы. Марксизм выродился в герметичный университетский дискурс, обслуживающий сам себя, либерализм ведёт себя так, будто нынешний миропорядок по-прежнему остаётся идеалом общественного устройства. Технологическая утопия оказалась лишь придуманным способом обмана, в котором крупные корпорации превращают информационные потоки в финансовые, а многочисленный цифровой пролетариат работает на фрилансе за копейки без социальных гарантий. На последних страницах книги в эту картину мира оказываются вписаны и просветительские проекты вроде «Полки» — ищущие спасения от путинского консервативного популизма в «привычном для советской либеральной интеллигенции пространстве между Пушкиным и Мандельштамом». Единственная продуктивная стратегия в этой депрессивной ситуации — оруэлловская позиция (трезво видеть все пороки современности и противостоять им, не присоединяясь ни к одному из дискредитировавших себя лагерей) или культурная меланхолия: «осознание того, что прошлого уже не вернуть и что с этим придётся как-то жить». — Ю. С.
Альбин Конечный. Былой Петербург
Новое литературное обозрение
Альбин Конечный — историк, литературовед, специалист по культуре Петербурга, а эта книга — собрание главных его статей за несколько десятилетий. Добираясь до мельчайших деталей из архивов, газет, дневников XIX века, он восстанавливает картину повседневной жизни Старого Петербурга — частной и парадной. В книге мы прочтём о том, как гуляли и катались с гор на Масленицу, как петербуржцы и приезжие переживали наводнения и проводили белые ночи, какие вывески встречались по пути людям, спешившим на службу или ехавшим прожигать жизнь, в каких ресторанах обедали Пушкин, Булгарин и редакция «Отечественных записок», в каком магазине зажиточное семейство покупало фортепиано, какие пьесы ставили в балаганах — здесь удивительна степень взаимопроникновения «низовой» и элитарной культуры: сцена из «Бориса Годунова» появляется в площадном театре в 1880 году, в это же время пьеса ставится в Малом театре всего лишь во второй раз за её историю; «балаганчиками» упивается Блок, райки и народные театры детства на всю жизнь запоминаются Александру Бенуа. Самая важная литературоведческая работа в сборнике — отмеченная в своё время Лихачёвым и Лотманом статья «Наблюдения над топографией «Преступления и наказания», существенно уточняющая представление об абсолютной топографической точности романа Достоевского (статья написана Конечным в соавторстве с женой, филологом Ксенией Кумпан). Особый и обширный раздел книги — истории о том, как Петербург изучали раньше: здесь есть статьи об обществе «Старый Петербург», о судьбе и трудах Николая Анфицерова, чьи книги (например, «Душа Петербурга») до сих пор азбука петербурговедов. — Л. О.
Майя Кучерская. Лесков. Прозёванный гений
Молодая гвардия
Николая Лескова по праву можно назвать самым недооценённым русским классиком: ему не отдали должное критики-современники, и его место в сегодняшнем литературном каноне не отвечает масштабу его дарования; как замечает его биограф, «Лесков для сегодняшнего российского читателя — автор «Левши», для зарубежного — «Леди Макбет Мценского уезда», хотя его наследие чрезвычайно обширно. Филолог и писательница Майя Кучерская отчасти исправляет эту несправедливость. «Прозёванный гений» — книга гибридной природы. Первая часть — художественная (хотя и подготовленная многолетними изысканиями) реконструкция плохо задокументированной молодости Лескова, его семейных драм, служебных неурядиц и литературной травли. Здесь показано, в частности, как цепь обстоятельств — неудачная статья о петербургских пожарах, личная ссора с покровительствовавшей писателю графиней Салиас де Турнемир и её литературным салоном, злой роман, написанный по следам этой ссоры и направленный против нигилистов, — испортили Лескову репутацию, в результате чего он оказался «отменён» задолго до появления cancel culture. Во второй, более традиционной части монографии Кучерская уделяет много внимания разбору произведений Лескова — предтечи модернистов, первым из русских писателей сделавшего предметом своего изображения русский язык, слово как таковое. — В. Б.
Подробнее о книге — в интервью «Полки» с Майей Кучерской.
Юрий Левинг. Иосиф Бродский в Риме
Perlov Design Center
Монументальный, прекрасно изданный трёхтомник — путеводитель по «бродским» местам Рима (вплоть до каждой гостиницы, где останавливался поэт). Юрий Левинг замечает, что хотя Бродский скорее ассоциируется с Венецией, Риму он посвятил больше стихов; именно в Риме он мечтал открыть Русскую Академию, куда могли бы приезжать поэты и писатели (русская культура в большом долгу перед итальянской, всегда утверждал он; история этого неосуществлённого проекта, из которого в конце концов вырос фонд стипендий памяти Бродского, изложена во втором томе). Адреса, собственно «римские» стихи и комментарии к ним, интервью поэта итальянским журналистам и разговоры Левинга с друзьями Бродского; масса фотографий и открыток с видами и автографами. Трудно представить себе в этом году лучший подарок поклоннику Бродского. — Л. О.
Юрий Левинг. Поэзия в мёртвой петле. Мандельштам и авиация
Бослен
Эта книга — об одном стихотворении Осипа Мандельштама («Не мучнистой бабочкою белой…»), и как всякая хорошая книга об одном стихотворении, она ещё о массе вещей. Стихотворение, которое Левинг подробно анализирует, — ода-эпитафия на катастрофу самолёта «Максим Горький» в 1935 году. Исследователя интересует, как в поэзии Мандельштама 1930-х сказывается современность; как Мандельштам, переживший арест и «чудесное» смягчение участи, пытается встроить в современность свою поэзию — и как авиационная тема вообще бытовала в советской лирике (вторую часть книги составляет разбор двух тематических антологий 1923 и 1939 годов: «Лексикон ранних акмеистов органично врастал в политжаргон, а пролетарские версификаторы успешно усваивали понятийные коды поэзии XIX века»). Левинг приводит слова современников, сравнивавших мандельштамовский способ письма с мотором, двигателем внутреннего сгорания. Крушение «Максима Горького» в 1935 году обсуждала вся страна, и для Мандельштама, в чьих стихах и прозе авиационные мотивы со временем как бы созревают, это был, безусловно, важный повод, импульс к письму. Красочные, макабрические описания катастрофы в советской прессе дали ему подспорье, несколько других драматических эпизодов — гибель в 1930-м нескольких лётчиков из Воронежа (где поэт будет отбывать ссылку), спасение челюскинцев — тоже послужили «подкладкой» для лирического сюжета.
Мандельштам сочиняет стихотворение долго, больше года, и оно становится шагом к грандиозным «Стихам о неизвестном солдате», где тоже появляется авиация — «лесистые крестики» самолётов и «воздушная яма». Книга Левинга, — кстати, образцово проиллюстрированная — из тех исследований, которым больше подходит название расследования. Мандельштам то считает свои стихи важной задачей, то называет «подхалимскими»; Левинг по косточкам разбирает период, когда волновавшая поэта общественная жизнь и его собственные стихи мучительно развиваются как части одного организма — перед окончательным осознанием чужеродности друг другу. — Л. О.
Олег Лекманов
Минюст РФ включил Олега Лекманова в список «иностранных агентов».
. «Жизнь прошла. А молодость длится…» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»
АСТ / Редакция Елены Шубиной
Ирина Одоевцева — поэтесса, романистка, ученица Гумилёва и участница его «Цеха поэтов», жена Георгия Иванова — в историю литературы вошла как яркая мемуаристка: в книгах «На берегах Невы» и «На берегах Сены» она описала литературное цветение Петрограда конца 1910-х — начала 1920-х годов и последующее эмигрантское существование русской литературы. При этом в воспоминаниях Одоевцевой — как и в очерках Иванова — нелегко отделить документальную правду от беллетристического вымысла и мифологизации. В этом на помощь приходят подробные комментарии филолога Олега Лекманова, который поясняет забытые имена, поверяет свидетельства Одоевцевой мемуарами её современников, а главное — восстанавливает тот непрерывный стихотворный фон, который стоит за её текстом и без которого этот текст во многом непонятен.
«На берегах Невы» — богатый источник информации о ключевых фигурах излёта Серебряного века, но если о Гумилёве, Георгии Иванове, Михаиле Лозинском и Осипе Мандельштаме Одоевцева пишет как их близкая собеседница, то о Кузмине, Ахматовой, Блоке — как восторженная почитательница. Как замечает Лекманов, Одоевцева ставит перед собой задачу не просто начертить «звёздную карту петроградского поэтического небосклона», но и вписать в эту карту себя как полноправную участницу. Эта роль, возможно, несколько преувеличена, хотя стихи её пользовались успехом — как писал желчный Николай Чуковский: «В деланно-жеманных балладах условными «живыми словами» она изображала трудный быт революционных годов как нагромождение причудливых, бессмысленных и жестоких нелепостей. И этим сразу завоевала сердца всего «Цеха». В этом же, прибавим, обаяние её мемуаров: сквозь разруху, разлуки, голод, холеру и террор Одоевцева умудряется видеть летучий запоздавший праздник русского модернизма и заразительно описывать его, любовно оживляя его главных фигурантов. «Путеводитель» помогает читателю сделать поправку на возможные аберрации памяти и литературную стратегию, уточняя факты, однако ничего не отнимает у живого удовольствия, с которым читается этот текст. — В. Б.
Василий Молодяков. Декаденты
Молодая гвардия
Историк, политолог и библиофил Василий Молодяков выпустил в серии «ЖЗЛ» коллективную биографию одиннадцати поэтов, чьи имена ассоциируются с декадансом и (или) символизмом (на принципиальной разнице между этими терминами настаивали сами герои книги). Перед нами что-то вроде большого сравнительного жизнеописания — это впечатление усиливается благодаря тому, что некоторые герои книги внимательно читали друг друга, соперничали или состояли в близких отношениях. Наряду с известными фигурами (Бодлер, Верлен, Рембо, Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Суинберн) здесь есть авторы, русскому читателю менее знакомые: Ганц Гейнц Эверс, один из основоположников литературы хоррора, и Джордж Вирек, «единственный настоящий декадент Америки». Ещё два героя книги — Александр Добролюбов и Александр Емельянов-Коханский — прославились именно своим экстраординарным поведением, «жизнестроительством», а не текстами, вполне эпигонскими и даже курьёзными (в литературной памяти остался сборник Емельянова-Коханского с посвящением «мне и царице Клеопатре»). В концепции Молодякова декадентство — это в первую очередь стиль жизни и модель личных отношений: любовь Бодлера к «чёрной Венере» Жанне Дюваль, роман Верлена и Рембо, конфликт Белого и Брюсова из-за Нины Петровской. Но и жизнетворчество, и просто творчество у этих людей объединяет желание, говоря словами Теофиля Готье, «выражать новые идеи в новых формах и словах, которых раньше не слыхивали».
На этом пути поэтов особенно интересует отталкивающее, страшное, трансгрессивное, и этот интерес встречает неприятие современников: Бодлера судят за «Цветы зла», у Бальмонта арестовывают сборник… В судьбах героев книги закономерно возникают крайности (благочестивый и развратный Верлен, кощунственный и набожный Сологуб), популярность чередуется с забвением, упоение славой — с разочарованностью. Последние годы Рембо, проведённые на государственной службе в Алжире, вполне можно сравнить с бродяжничеством Александра Добролюбова, который побывал и поэтом, и основателем секты, а умер печником в Азербайджане. Молодякова занимают и мистификации, любимые символистами: в книге видно, насколько тонка грань между экспериментом, сознательным озорством и пародией. — Л. О.
Глеб Морев. Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский
Новое издательство
Истории двух драматических литературных сюжетов — первого ареста Мандельштама и отъезда Бродского в эмиграцию. Недавно обнаруженные документы и свидетельства позволяют увидеть в этих (и многих других) несхожих историях повторяющуюся модель: поэт пытается вступить с властью в равноправный диалог, обращаясь с просьбой, предложением, восхвалением или оскорблением и так или иначе ощущая себя сопоставимой по масштабу величиной, — а власть решает сиюминутные политические задачи, минимизируя возможные угрозы и не очень понимая, с кем имеет дело и чем этот маленький щуплый человечек может быть важен. — Ю. С.
Подробнее о книге — в интервью «Полки» с Глебом Моревым.
Уистен Хью Оден. Рука красильщика и другие эссе
Издательство Ольги Морозовой
«Рука красильщика» — четвёртый сборник эссе Уистена Хью Одена, вышедший по-русски. В афористичной, ёмкой и противоречивой манере Оден пишет о кафкианском герое без «я» и Дэвиде Лоуренсе, «прекрасно однообразном» стиле Роберта Фроста и близости детектива к греческой трагедии, о вдохновении и искренности в поэзии, формировании читательских вкусов и бессмысленности критики. «Когда критик говорит, что «эта книга плоха или хороша», подразумевается, что книга хороша или плоха на все времена. Однако применительно к будущему читателя книга хороша тем, насколько хорошо она повлияет на это самое будущее, которое пока неизвестно, что делает критическое суждение о книге принципиально невозможным». — Е. П.
Александр Сенкевич. Венедикт Ерофеев: человек нездешний
Молодая гвардия
Вторую за два года биографию Венедикта Ерофеева неизбежно будут сравнивать с предыдущей — «Посторонним» Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского; понимая это и признавая заслуги предшественников, Александр Сенкевич выстраивает повествование совершенно иначе. Отталкиваясь от идеи симфоничности произведений Ерофеева, он делит книгу на «Экспозицию», «Разработку» и «Коду» — причём собственно биографическая часть начинается в «Разработке», на 251-й странице; Сенкевич опирается здесь не только на другие работы о Ерофееве, но и на многочисленные разговоры с его родными и друзьями (книгу даже открывают два текста внучки писателя Веры Ерофеевой — школьное сочинение и студенческое эссе). Вообще здесь очень много автора: Сенкевич в эссеистическом ключе размышляет о текстах и судьбе Ерофеева, пристрастно комментирует воспоминания о писателе и вступает с ним в заочный диалог. Боясь, по собственному признанию, наполнить биографию «туманом литературоведческой зауми», биограф тем не менее усердно отмечает связи ерофеевских произведений и высказываний с русской классической литературой и философией, от Бердяева до Мамардашвили. Будучи профессиональным индологом, он время от времени пишет о Ерофееве что-то вроде «Когда большинство его коллег по писательству ещё пребывали в сансаре, в мире бесконечных телесных перерождений, он уже находился в своей нирване — вне пространства и времени, вне всех возможных форм сансарного существования» (тремя десятками страниц позже — небольшой трактат о сансаре, нирване и других понятиях буддизма). Книга по сравнению с «Посторонним» несколько сумбурная — но неординарная и написанная с большой любовью. — Л. О.
Билл Сэмюэл. История Foyles. Книготорговец по случаю
КоЛибри
Билл Сэмюэл — внук Уильяма Фойла, создавшего в Лондоне «лучший книжный магазин в мире». В результате сложных разделов наследства Сэмюэл стал у руля семейного дела, сменив на этом посту свою усопшую тётушку Кристину, и нашёл некогда процветающее предприятие в руинах: управляющие воруют, персонал разогнан, учёт товаров — чистая катастрофа. За пыльными грудами книг обнаруживается заброшенная шахта лифта, а при разборе почты — древняя открытка прежней владелице, хорошо иллюстрирующая состояние оставленного ей предприятия: «Дорогая мисс Фойл! Ваш магазин остаётся храмом смятения, невежества и подозрительности. Я предпочту не обедать с Вами. Пожалуйста, не приглашайте меня больше. Искренне Ваш, Люсьен Фрейд». Кризис отдельного предприятия совпал с общими сложностями, с которыми столкнулись книжные магазины в начале XXI века, вынужденные конкурировать за кошелёк читателя с онлайн-торговлей, а за его внимание — с компьютером: «Было ясно, что старая модель книжной торговли — магазин, куда люди приходят только купить книги и где решающее значение имеет ассортимент книг, — не работает в мультимедийном мире XXI века». Сэмюэл с блеском вышел из положения, одновременно работая над модернизацией торговли и созданием единственной в своём роде атмосферы: он приютил в «Фойлз» разорившийся магазин феминистской литературы, устроил на первом этаже джазовое кафе, поставил в детском отделе аквариум с пираньями, занялся устройством литературных ланчей и фотовыставок, отражающих нравственные ценности компании. «Книготорговец по случаю» — это полезная и оптимистичная история возрождения и успеха семейного бизнеса в мире корпораций — и одновременно тёплый роман о семье в чисто британском духе, с детскими воспоминаниями о дедовской библиотеке — пещере Аладдина — и непременной эксцентричной тётушкой, захоронившей урну с прахом любимого мужа на кладбище для домашних животных («Поскольку она всегда предпочитала животных людям, это был своего рода комплимент»). — В. Б.
Торквато Тассо. Освобождённый Иерусалим
Издательство Ивана Лимбаха
Событие, вообще говоря, историческое: вышел новый перевод одной из самых влиятельных эпических поэм в европейской словесности — полный, выполненный в соответствии с формой оригинала, по тексту, сверенному с рукописями и свободному от цензурных искажений. У поэмы Тассо, посвящённой Первому крестовому походу, непростая судьба: поэт задумал её в 15-летнем возрасте, продолжал работать над ней почти до конца жизни. Работая, он всё больше боялся обвинений в ереси. По тексту поэмы, вольному, полному эротики, магии и отсылок к античной мифологии, видно, что опасения были не беспочвенными (даже Вольтер позднее обвинял поэму в «избытке воображения»), — но страх Тассо достиг параноидального масштаба. В конце 1570-х поэт был объявлен безумным и провёл семь лет в лечебнице. Поэму, и без того искажённую папской цензурой, начали печатать без его согласия, внося туда многочисленные поправки: даже само название «Освобождённый Иерусалим» — не авторское. Негодовавший Тассо ничего не мог с этим сделать — но, когда он вышел из лечебницы, его поэма уже прочно вошла в европейский канон.
К «Освобождённому Иерусалиму» русские переводчики подступались не меньше десяти раз; известен анекдот о том, как дядя юного Афанасия Фета посулил ему большие деньги — по тысяче рублей за песню, — если тот выучит наизусть перевод Семёна Раича, но Фет, недолго промучившись с раичевскими стихами, бросил Тассо ради Пушкина (Пушкин, кстати, очень высоко ставил «Освобождённый Иерусалим»). До выхода перевода Романа Дубровкина главной русской версией «Иерусалима» считалась работа Владимира Лихачёва — тот переложил поэму нерифмованными пятистопными ямбами, что, возможно, приближает читателя к филологическому пониманию Тассо, но не передаёт впечатления от его мелодики. Перевод Дубровкина замечателен по уровню версификации (хотя итальянисты уже обнаруживают там мелкие вольности); есть все основания считать, что он станет каноническим. В книгу включены статьи и комментарии переводчика. — Л. О.
Санна Турома. Бродский за границей
Новое литературное обозрение
В облаке тегов, окружающих Иосифа Бродского, слова «изгнание» и «бездомность» были бы выделены самым крупным шрифтом — и в случае с крупным писателем такой акцент объясняется не только обстоятельствами биографии, но и особенностями литературной стратегии. Поэт-изгнанник — готовая культурная маска, которую до Бродского примеряли и романтики девятнадцатого века, и модернисты двадцатого. На примере текстов Бродского о путешествиях (Ялта, Паланга, Мексика, Рио, Стамбул, Венеция) финская исследовательница Санна Турома показывает, как автор меняет настройки изгнанничества — переходя из режима джентльмена-колонизатора в модус космополита, живущего в экстерриториальном пространстве литературы; как варьирует оттенки ностальгии — по «настоящему Западу», каким он виделся из СССР, по империи высокой культуры и стиля, которую уничтожила империя террора и тирании, по эпохе, когда были возможны «подлинные» путешествия и географические открытия; как иронизирует над собственной позой «заброшенности», осознавая, насколько нелепо она выглядит в эпоху массового туризма и трансконтинентальных потоков беженцев. Турома рассматривает тексты Бродского с позиции постколониальной теории — однако не спешит их осудить, а объясняет уникальным временем/местом Бродского в культуре: слово «устаревшая» применительно к его оптике звучит в книге, кажется, всего один раз. — Ю. С.
Михаил Ямпольский. Ловушка для льва
Сеанс
Объёмное исследование темы, казалось бы исхоженной историками искусства: как форма в искусстве в эпоху модернизма рассталась со смыслом и зажила отдельной жизнью. Ямпольский возводит эту эмансипацию ко времени упадка Больших Идей, порождённых Французской революцией, — слова и понятия обесцениваются, Рембо умолкает, чувствуя бессилие слов, Ницше слушает музыку дионисийской трагедии, философы и художники то пытаются объяснить мир через сетку логических понятий, присущих человеческому разуму, то отказывают логике и разуму в каких-либо правах на соответствие реальности. Любой смысл (идея, понятие) начинает восприниматься как заведомо неполный и тавтологичный, а форма уходит в свободный полёт, занимаясь собственными развоплощениями и метаморфозами — что и порождает модернизм, авангард и революцию. Автор с блеском выстраивает связующие линии между Витгенштейном и Эйзенштейном, или Гофмансталем и Вёльфлином, или кем угодно и кем угодно (а также десятками искусствоведов, чьи имена нам ещё предстоит выучить) — и даже если в путешествии по этому маршруту интеллектуальной истории нам не откроются новые дали, мы вправе отдать должное масштабу и сложности составленной автором карты. — Ю. С.