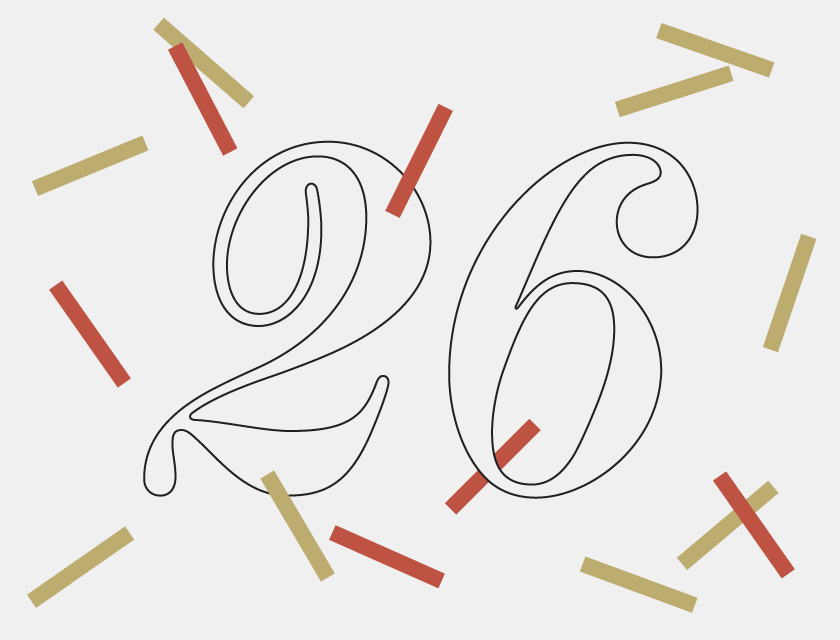«Полка» продолжает большой курс «История русской поэзии»: в этой лекции Валерия Шубинского речь идёт о неподцензурной поэзии Ленинграда 1970–80-х — текстах так называемой второй культуры, которая мыслила себя как особая литературная цивилизация, напрямую наследовавшая русскому модернизму. Герои этой лекции — зрелый Бродский, Елена Шварц, Виктор Кривулин, Аркадий Драгомощенко, Олег Юрьев и многие другие.
Фото Ханса Кампфа
Уже в 1960-е годы в Москве и Ленинграде сложились во многом раздельные системы вкусов и творческих взаимоотношений. В конце 1960-х — начале 1970-х годов расхождение усилилось. Ситуация и в московской, и в ленинградской поэзии принципиально изменилась, и, пожалуй, в ленинградской — в большей степени. Изменилась прежде всего внешняя среда — точнее, связанные с ней ожидания. В первой половине и середине 1960-х годов публикационные возможности постоянно расширялись. Масштабы этого расширения еще не были понятны, а потому даже у самых далёких от официальной идеологии и эстетики поэтов оставались надежды на возможность публикации. Например, книга Бродского рассматривалась издательством «Советский писатель» в 1966–1969 годах, и несколько раз казалось, что её выход близок. Однако к концу десятилетия стало понятно, что дальнейшего расширения цензурных рамок не будет — а в Ленинграде эти рамки были несколько строже московских.
В течение 1970-х годов многие ведущие представители неподцензурной поэзии Ленинграда предыдущего десятилетия сошли со сцены: Леонид Аронзон погиб, Бродский, Дмитрий Бобышев, Лев Лосев, Анри Волохонский, Алексей Хвостенко эмигрировали, Евгений Рейн уехал в Москву.
Вне Ленинграда творчество этих поэтов претерпело большие изменения. В первую очередь это касается Бродского. Стихи 1973–1976 годов, по большей части составившие вторую половину книги «Часть речи» (1977), отличаются от более ранних даже просодически. В ещё большей степени эти черты бросаются в глаза в книге «Урания» (1987). Бродский всё чаще переходит к чисто тоническому (акцентному) Тоническим, или акцентным, называют стихосложение, построенное на равенстве ударений в строках, при этом число слогов между ударениями может быть свободным. Этим тонический стих отличается от силлабо-тонического, в котором равны и количество ударений, и количество слогов между ударениями, и от таких переходных форм от силлаботоники к тонике, как дольник и тактовик. стиху. Интонация утрачивает «человечность», стихи кажутся «холодными» на поверхности — но огромный эмоциональный напор уходит в глубину:
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих.
По-прежнему широко используя анжамбеманы Анжамбеман (от французского enjambement — «перенос») — несовпадение синтаксического и ритмического отрезков стиха; перенос синтаксической части в следующий ритмический отрезок (как правило — перенос окончания фразы в следующую строку). Анжамбеман появляется в античной поэзии, пользуется успехом у поэтов-романтиков и часто встречается у авторов XX века. Характерным этот приём стал у Иосифа Бродского. и сложную строфику, сочетая, как прежде, разветвлённый «книжный» синтаксис с разговорной лексикой, Бродский в этот период доводит до предела барочную изысканность просодии и в то же время интонационное напряжение стиха, например в «Осеннем крике ястреба»:
Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечёт,
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, её же
увеличивая за счётеле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели; за счёт пустоты в лице
ребёнка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.
Тема разлуки с родиной по традиции становится одной из важных тем лирики Бродского — по крайней мере в первый период эмиграции. Важное место занимают путешествия (Мексика, Лондон, в особенности — Венеция, которая ассоциируется с Петербургом и становится сквозной темой стихов 1973–1985 годов). «Имперская» тема трансформируется и универсализируется: «Как бессчётным женам гарема всесильный шах / изменить может только с другим гаремом, / я сменил империю...» Темой многих стихотворений становится мифологизированный конфликт «Запада» и «Востока» («Письма династии Минь», 1977, «Назидание», 1987). Эти сквозные темы накладываются на конкретные политические события, причём реакция на них кажется противоречивой: от трагически окрашенной эмпатии к «солдатам» советской империи («На смерть Жукова», 1974) до яростного недифференцированного отвращения к ней («Стихи о зимней кампании 1980 года»). Однако в обоих случаях очевидны отсылки к классической русской поэзии. Итог любовной лирике, обращённой к одному адресату — Марине Басмановой, — подводит книга «Новые стансы к Августе» (1983). Но даже любовный диалог заканчивается осознанием трагического и неизбывного экзистенциального одиночества — одновременно означающего свободу:
Так творятся миры.
Так, сотворив их, часто
оставляют вращаться,
расточая дары.Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар.
Бродский продолжал оказывать огромное влияние на молодых поэтов, но его физическое отсутствие в Ленинграде и в России делало это влияние более косвенным. Тем временем на смену уехавшим, умершим или замолчавшим в Ленинграде пришло новое поколение — с новыми эстетическими и мировоззренческими установками. По мере освоения разнообразных языков отечественного и мирового модернизма поэтика прямой лирической исповеди многим казалась исчерпанной (разумеется, и в поколении 1960-х эта поэтика была близка далеко не всем авторам, но читателем воспринималась как мейнстрим, и именно в её контексте читалось творчество Бродского и поэтов его круга). Ценностью всё больше ощущалась не экзистенциальная личная свобода, а культура как сложная система надличностных связей, противостоящая советскому варварству. Поэтический язык становился всё разнообразнее, первое лицо в стихах — всё сложнее. Личность воспринималась уже не как носитель уникального опыта, а как равнодействующая культурных влияний; всё большее место в поэзии завоёвывает игра с лирическими масками, с разными вариантами «не я».
Убежищем, в котором могли реализовать себя не вписывающиеся в разрешённую эстетику авторы, оставалась детская литература. Редкий пример поэта, у которого крайне трудно провести границу между детскими стихами (публиковавшимися, хотя и вызывавшими разносы и печатную травлю) и «взрослыми» (не печатавшимися), — Олег Григорьев (1943–1992). Разумеется, «взрослые» стихи были тематически гораздо раскованнее детских, однако общий принцип построения был един: постижение парадоксальной, комической и зачастую жестокой природы бытия через простое действие:
Прохоров Сазон
Воробьёв кормил.
Бросил им батон —
Десять штук убил.
Ушедшее в народ четверостишие про «электрика Петрова», который «намотал на шею провод», было написано Григорьевым ещё в 1961 году. Однако широчайшее распространение детского фольклора, проникнутого чёрным юмором (так называемые садистские стишки), относится ко второй половине 1970-х. Разумеется, поэзия Григорьева, повлиявшая на эту субкультуру, далеко выходит за её рамки. В ней присутствует и лирическое, и метафизическое начало:
Смерть прекрасна и так же легка,
Как выход из куколки мотылька.
Несмотря на то что по возрасту он уже всецело принадлежит к поколению 1970-х, Григорьев ещё связан с миром шестидесятых некоторыми чертами своей творческой личности — в том числе внешней брутальностью поэтики. Но за видимой наивностью и демократизмом формы у Григорьева таится тончайшая фактура; за грубой «пролетарской» реальностью (в описании которой Григорьев следует линии «Жителей барака» Холина) — отсылки к вечному миру мифа.
Жена подала мне яблоко
Размером с большой кулак.
Сломал пополам я яблоко,
А в яблоке жирный чеpвяк.
Одну половину выел,
Дpугая чиста и цела.
С червём половину я выкинул,
Другую жена взяла.
И вдруг я отчётливо вспомнил —
Это было когда-то со мной:
И чеpвь, и сад, и знойный полдень,
И деpево, и яблоко, и я с женой.
Главное же, что человеческая личность в его стихах перестаёт быть мерой вещей — она распадается, умаляется, превращается в «ленту Мёбиуса». «Детоненавистничество» детского поэта Хармса получает своеобразный отклик у детского поэта Григорьева; его герой чувствует себя одинаково беззащитным перед «злыми детьми с счастливыми рожами» и в неуютном мире «взрослых»/«рослых». Так же беззащитен он перед непредсказуемыми изменениями пространства и времени:
Я летал в созвездье Рыбы,
Прилетел назад —
Дети стали стариками,
На меня ворчат.
Этот распад антропоцентрической картины мира делает Григорьева уже поэтом новой эпохи.
Сергей Вольф (1935–2005), изначально один из самых ярких и типичных ленинградских шестидесятников, начинал как прозаик, социализировался, как и Григорьев, в основном как детский писатель и начал писать лирику не раньше середины 1970-х. Его признание как поэта связано с кругом группы «Камера хранения», в который он вошёл в 1980-е годы. В лирике Вольфа характерный для его поколения раскованный подход к языку и интонации сочетается с «остраняющим» влиянием обэриутов и, как и у Григорьева, с решительным сломом антропоцентрической картины мира. В его стихах в огромном количестве присутствуют «маленькие боги» — в основном это одухотворённые и очеловеченные насекомые или мелкие зверьки. Одно из его самых известных стихотворений посвящено любовным отношениям между человеком и севшей ему на плечо стрекозой. Гротескная острота восприятия мира сочетается у него с мягким, пронзительным, иногда трагически окрашенным лиризмом:
…Кто пушинкой, на ощупь, во тьму
На волне, неподвластной уму,
За пределы черёмух и лип
Улетает, похожий на всхлип,
Увядает, как сон наяву,
Опадает в глухую траву,
Не перечит, не плачет, не ждёт:
Ах, когда избавленье придёт?..
Если у Григорьева детские стихи смешиваются со взрослыми, то у Вольфа одни и те же мотивы и даже формулировки («Мне на плечо сегодня села стрекоза», «Кто там ходит так тихо в траве») использовались сначала в прозаических книгах, а затем в стихах — или наоборот. Но диалог между двумя аспектами творчества писателя выстраивается сложно. Свойственная детской литературе (и мультипликации) упрощённость и выпуклость образа, присутствующая в части стихотворений, в других стихах сменяется пластикой иного типа — тревожно-зыбкой:
Магнитными пластами
Сокрыта пыль земли,
Мышиными хвостами
Всю ночь её мели.
Забавы рисованья
Творцу не по нутру —
Горообразованье
Закончилось к утру.
Другим распространённым убежищем от официоза стали переводы; именно в качестве переводчика западноевропейской поэзии (от Рильке и Бельмана Карл Микаэль Бельман (1740–1795) — шведский поэт и музыкант. Был мастером импровизации, работал в традиции шведской баллады, сочетал утончённость метафор и образов с комическими, «низкими» темами. до Малларме и Лесьмяна Болеслав Лесьмян (1877–1937) — польский поэт. Происходил из еврейской семьи, при рождении носил фамилию Лесман. Жил в Киеве, Варшаве, Париже, Лодзи. Переводил французскую поэзию. Один из первых польских символистов и экспрессионистов; стихи Лесьмяна отличают фольклорные и эротические мотивы, усложнённый, насыщенный неологизмами язык — в связи с чем не раз делались заявления о его непереводимости. Несмотря на это, поэзию Лесьмяна много переводили на другие языки, в том числе на русский. ) получил признание в Ленинграде Сергей Петров (1911–1988), филолог-скандинавист, в 1933 году сосланный в Сибирь, по окончании срока ссылки оставшийся там, в 1954-м поселившийся в Новгороде и только в 1970-е годы окончательно вернувшийся в Ленинград. В ранний период Петров блистательно завершает определённые традиции Серебряного века (в таких стихотворениях, как «Поток Персеид», 1945), перекликаясь со своими предшественниками (Клюевым, Мандельштамом, Кузминым) и сверстниками (Арсением Тарковским):
Ночь плачет в августе, как Бог, темным-темна.
Горючая звезда скатилась в скорбном мраке.
От дома моего до самого гумна
земная тишина и мёртвые собаки.Крыльцо плывёт, как плот, и тень шестом торчит,
И двор, как малый мир, стоит не продолжаясь.
А вечность в августе и плачет и молчит
звездами горькими печально обливаясь.
В этот же период он начинает разрабатывать некоторые сквозные для его поэзии образы («Авось», «Самсусам», «Усумнитель»). Во второй половине 1960-х годов складывается его зрелая манера. Давая волю мощной, порождающей всё новые ассоциации стихии языка, Петров в зрелый период организует текст по музыкальному принципу, создавая «фуги» и «концерты» — и в лучших из них достигает исключительного эмоционально-чувственного напряжения, например в «Босхе» (1970):
На арфе ра́спят голый слух,
отвисла похоть белым задом,
пять глаз, как пять пупов, укрылись за дом,
сбежав с рябых грудей слепых старух.
И два отвесных тела рядом,
два оголённых райских древа —
долдон Адам и баба Ева,
она круговоротом чрева,
а он напыщенным шишом
бытийствуют — и нет ни лева,
ни права в их саду косом.
Грубоватый, простонародный, иногда не чуждый архаизмов язык, уводящий в стихию безличного, сочетается у Петрова с отчётливо персоналистским и нонконформистским миросозерцанием. Его духовный спутник — Кьеркегор, но также протопоп Аввакум: человек, выбирающий духовное одиночество, и человек, гонимый за веру большинством. Экзистенциалистский контекст важен для понимания его лирики:
Я думаю иль кто-то мыслит мной?
Рука с плечом мои? Или рычаг случайный?
Я есмь лишь часть себя иль гость необычайный?
Начало вечности или конец срамной?Настигнутый умом, я сплошь одни увечья.
Настёган истинами, еле-еле жив.
И, голову в сторонку отложив:
Уж лучше Божья ложь, чем правда человечья.
Огромное наследие Петрова стало появляться в печати лишь после 1983 года. До этого его стихи были известны в первую очередь в кругу молодых (моложе его на 30–40 лет) поэтов, с которыми Петров находился в диалоге. Этот круг включал Елену Шварц, Виктора Кривулина и других.
Глеб Семёнов
Вячеслав Лейкин
Виктор Соснора
Глеб Семёнов
Вячеслав Лейкин
Виктор Соснора
Глеб Семёнов
Вячеслав Лейкин
Виктор Соснора
Ещё один канал, связывающий официальный и неофициальный литературные миры в 1970–80-е годы, — литературные объединения. В 1970-е годы ещё существовали легендарные ЛИТО Глеба Семёнова и Давида Дара, большой популярностью пользовались ЛИТО Александра Кушнера, Вячеслава Лейкина (существующее и по сей день!) и особенно Виктора Сосноры. Помимо литературной педагогики Сосноры, влияние на молодую поэзию оказывало его собственное творчество этой поры. Стихи из авторских сборников «Знаки» (1972), «Хутор потерянный» (1976–1978), «Верховный час» (1979–1980) и других лишь частично вошли в «советские» книги «Кристалл» (1977) и «Песнь лунная» (1982) — однако в достаточной степени, чтобы тот же «Кристалл» стал культовой книгой. Стиль зрелого Сосноры, в котором романтическая напряжённость интонации сочетается с отчаянной авангардной смелостью (почти произволом) подхода к языку и сложнейшей работой со звуковой составляющей стиха, несомненно оказал влияние и на неподцензурную поэзию:
Радужные в тумане мыльные пузыри — фонари.
Спичку зажжёшь к сигарете — всюду вода, лишь язычок в трёх
пальцах — звезда.Тикают по циферблатам цикады... пусть их, их цель... Пульс и\
капель!В небе — нет неба. Август арктический, или оптический
очи-обман?.. Ночь и туман.Хор или ноль?.. Ходит, как нож с лезвием чей-то ничей человек.
Целый век…
Однако влияние Сосноры стало ощутимым скорее через поколение — оно сказалось в творчестве поэтов, которые пришли в начале 1980-х (и в некоторой своей части были его непосредственными учениками). В то же время для большинства поэтов, дебютировавших в конце 1960-х, Соснора был чужим. Неоднозначным было у многих из них и отношение к поэзии Бродского. И, наоборот, именно это поколение по-настоящему оценило не замеченного своими сверстниками Аронзона и создало его репутацию.
Это поколение в Ленинграде неразрывно связано с уникальной (впервые с 1920-х годов) попыткой организации альтернативной, независимой от государства литературной жизни — так называемой второй культурой.
После неудачной попытки издания коллективного сборника «Лепта» в 1975 году (сборник был составлен и представлен в издательство «Советский писатель», но отклонён) наиболее яркие поэты поколения 70-х прекращают попытки войти в официальную литературу. В то же время самиздатские литературные журналы, которые прежде удавалось довести только до второго-третьего номера (как «Синтаксис» Гинзбурга), становятся постоянным фактором литературной жизни. Самым долговечным из них был журнал «Часы» (1976–1990), выпускавшийся прозаиком Борисом Ивановым и эссеистом Борисом Останиным. За ним последовали «37», «Обводный канал». Тиражи этих машинописных журналов и приложенных к ним книг никогда не превышали нескольких десятков экземпляров. Тем не менее в сочетании с квартирными поэтическими вечерами, семинарами, учреждённой в 1978-м премией Андрея Белого Первая неподцензурная литературная премия в СССР. Учреждена в 1978 году редакцией самиздатовского журнала «Часы». Премия присуждалась в трёх номинациях — поэтической, прозаической и в области гуманитарных исследований. В 1997 году добавилась ещё одна номинация — за заслуги перед литературой. В 2010 году — за перевод, а также литературные проекты и критику. Лауреатами премии в разные годы становились Саша Соколов, Андрей Битов, Елена Шварц, Михаил Гаспаров, Владимир Сорокин. они стали принципиально новым явлением. Высокий статус литературы в позднесоветском мире способствовал и общественному интересу к неподцензурной поэзии. КГБ не мог вполне контролировать циркуляцию текстов и предотвратить их проникновение за границу и публикацию в эмигрантских изданиях. В конечном итоге власти вынуждены были пойти на компромисс: Клуб-81 (названный так по году создания) получил официальный статус и дал поэтам возможность легальных выступлений. Однако выпущенный этим клубом сборник «Круг» (1985) даёт весьма искажённое представление о мире ленинградской неподцензурной литературы.
Центральными фигурами этого движения стали Виктор Кривулин (1944–2001) и Сергей Стратановский (р. 1944). Харизматичный Кривулин играл роль идеолога «второй культуры», посредника между поэтами, вместе со своей женой Татьяной Горичевой редактировал журнал «37». Стратановский был соредактором «Обводного канала», организатором религиозно-философского семинара, продолжавшего традицию Религиозно-философских собраний Цикл встреч писателей и философов с представителями православного духовенства, организованный в 1901 году. На них обсуждались отношения Церкви с государством, интеллигенцией, взгляды православия на брак, свободу совести. Среди членов-учредителей были Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов, Василий Розанов, Александр Бенуа. Закрылись собрания в 1903 году постановлением обер-прокурора Синода Константина Победоносцева. Серебряного века. По складу характера и темпераменту они идеально дополняли друг друга. При этом поэтика их тоже была совершенно различной.
Стих Кривулина по своему просодическому складу, мелодике и интонации восходит к Осипу Мандельштаму. Вместе с тем Кривулина нельзя называть ассоциативным лириком, как Мандельштама. Его поэзия в основе своей рациональна, в ней выражено первое лицо. Однако лирический субъект не исповедуется, не делится деталями своей биографии (пусть фиктивными, как часто у Бродского): он представляет определённую точку обзора, выражает определённую позицию в споре идей. При этом структура высказывания у Кривулина очень сложна, оно всегда дробно, прерывисто, внутренне противоречиво.
об чём ни заикнись — уже мертво
о нищете о нише о пробеле
твердит само отсутствие, разделим
незащищённой жизни вещество
на всех несуществующих…
Мир стихов Кривулина конца 1960-х и 1970-х — почти исключительно мир культуры. Это не тот книжный мир, причастность к которому служит самоуважению лирического героя Александра Кушнера, и не мир филологической игры, как у Льва Лосева. У Кривулина культурный код трагически связан и с метафизическими рассуждениями и медитациями, и с социальными переживаниями:
Я Тютчева спрошу, в какое море гонит
обломки льда советский календарь,
и если время — божья тварь,
то почему слезы́ хрустальной не проронит?
В то время как в официальной культуре происходит вытеснение либерального западничества воскрешённой славянофильской (или псевдославянофильской) идеологией (например, у Вадима Кожинова Вадим Валерианович Кожинов (1930–2001) — литературовед, критик, публицист. Автор книг о теории литературы, классической и современной поэзии («Тютчев», «Происхождение романа», «Размышления о русской литературе»). Сыграл решающую роль в вопросе публикации работ Бахтина в 1960-х. В 1990-х Кожинов занимался в основном историей: выпустил несколько спорных трудов о черносотенцах, истории Древней Руси и России XX века, сталинских репрессиях — в которых выражал очень консервативные политические взгляды. и писателей его круга), Кривулин стремится к синтезу западнического и славянофильского векторов русской мысли. Окружающий советский мир с его выродившейся идеологией кажется внеположным обоим этим векторам, он отлучён и от отечественной, и от мировой культуры. Тоска культурной и экзистенциальной заброшенности, покинутости, возможно, основной мотив поэзии Кривулина этого периода:
…Впустите же блудного сына
хотя бы в сообщество крыс,
хотя бы в клочок паутины,
что над абажуром повис!Хотя бы вся жизнь оказалась
судорогой одной
предсмертной — но только не хаос
вселенной, от нас остальной!Но только не лунная мука
на площади, белой дотла,
где ни человека, ни звука,
ни даже намёка, что где-то
душа по-иному жила,
чем соринкой на скатерти света.
Итогом попыток осмыслить отечественную историю и обстоятельства эпохи (в том числе жизнь тех, «кому давно не до картин и книг / в ячеистых стенах существованья») стал цикл «Галерея» (1984) — стихи, посвящённые несуществующим картинам, так или иначе связанным с прошлым России от времён Николая I до среднесоветских лет. Вообще, исходная рациональность и внятность поэтики Кривулина не исключает сложной игры с культурными дискурсами и лирическими масками. Иначе строится эта игра у других поэтов.
Например, у Стратановского субъект высказывания зачастую — одержимый культурными комплексами советский человек. В отличие от Д. А. Пригова, находящего свой путь в эту же эпоху, у Стратановского эта маска не стала тотальной и непроницаемой: расстояние между поэтом и лирическим субъектом подвижно, и сигналами его изменения становится смешение языковых пластов, местами напоминающее о «Столбцах» Заболоцкого. В то же время «советскость» его героя — не уникальное дискредитирующее свойство. Он остаётся частью большой истории, но в этой истории он — аутсайдер, наследник пушкинского Евгения и «маленьких людей» Достоевского; его бунт — бессмысленный бунт Герострата и Бронюса Майгиса (психически нездорового вандала, облившего в 1980 году серной кислотой рембрандтовскую «Данаю»). Он репрессирован не только государством, но и большой культурой и бессилен в «страшном мире», который говорит с ним на странной смеси мистического языка символистов и нелепого советского «новояза»:
О Ленинград — земля пустая
И нелюбезная народу
Здесь мутят черти из Китая
В каналах медленную воду
Здесь Ленэнергии: Ленсвет, Ленгаз, Ленмозг
Сосут вампирами пустыми
И ты сгибаешься под ними
Ничтожный человеко-мост…
Эксперименты с советским языком (например, широкое использование характерных для него составных форм — «человеко-мост», «кровостраница», «неботара», «татаро-волк») вообще очень характерны для Стратановского — как и наложение этого языка на внеположную ему реальность. Так в «Библейских заметках» (1978–1990) появляются египтяне-«прорабы» и «ударная стройка» Храма: то, что для Кривулина (и не только для него) — проявление убожества и выпадения из Истории, для Стратановского как раз и является её, истории, сутью. При этом он отнюдь не глух и к высоким сторонам (ранне-) советского мифа: в некоторых его стихотворениях воскрешается утопический мир «русского космизма»; он готов отнестись к нему если не с сочувствием, то с пониманием, как и к иным проявлениям контркультурного бунта «усталых рабов».
Стихи Стратановского 1970–80-х годов принципиально полифоничны. Высшее проявление этой полифонии — большое стихотворение «Суворов» (1973), в котором мы слышим голоса участников событий (речь идёт о подавлении Польского восстания 1794 года) и судящих их (с разных позиций и на разном языке) потомков:
Но вождь филистимлян Костюшко
Воскликнул: «О братья, смелей
Пойдём на штыки и на пушки
Сибирских лесов дикарей,
И Польша печальной игрушкой
Не будет у пьяных царей.И будет повержен уродец,
Державная кукла, палач,
Орд татарских полководец,
В лаврах временных удач».А воитель ответил:
«Неужто не справимся с норовом
Филистимлян?
Кто может тягаться с Суворовым?
Я — червь, я — раб, я — бог штыков.
Я знаю: плоть грешна и тленна,
Но узрит пусть, дрожа, Вселенна
Ахиллов Волжских берегов».
Многие стихи Стратановского («Диспут», 1979) построены по принципу средневекового фаблио Популярный в позднем Средневековье старофранцузский жанр стихотворной новеллы. Как правило, в анекдотической форме повествует о хитрости и остроумии крестьян (вилланов), ремесленников; отрицательными героями являются рыцари и священники. . Предметом спора тут становятся, однако, метафизические вопросы, уже не замаскированные, как в «Суворове», политикой. Здесь тоже присутствует языковая игра — как, например, в «Диалоге о грехе между старчиком Григорием Сковородой и обезьяной Пишек» (1973), где в стилизованный харьковский бурсацкий суржик XVIII века вторгается остраняюще-модернизирующая речевая струя:
Ева оному виной.
Страшен мир двуполый.
Происходит грех земной
От прабабы голой.Возлюбила грязь и плоть
И зиянье срама.
И разгневался Господь,
И случилась драма.
В конце 1970-х — начале 1980-х Стратановский переходит от рифмованного полиметрического стиха к нерифмованному — подобию вольного гекзаметра («Пассеизм и гуманность меня не спасут, не спасут…»). В 1990-е годы он отказывается от большой формы ради коротких стихов эпиграмматического типа. Поэзия Кривулина в эти годы тоже эволюционирует в сторону большей графичности, эпиграмматической чёткости и резкости.
Крупнейшим поэтом «второй культуры» 1970–80-х годов, уникальным и по мощи, и по количеству и разнообразию написанного, стала Елена Шварц (1948–2010). В её творчестве сошлись разные, взаимоисключающие культурные линии: от Маяковского и Цветаевой до Кузмина, от комедии дель арте до Артюра Рембо, от христианского мистицизма до китайской демонологии.
Для Шварц характерно острое, напряжённое ощущение собственной человеческой личности и поэтической индивидуальности; и в то же время мало кто из поэтов XX века так много и так непринуждённо играл с поэтическими масками. Так, знаменитый цикл «Кинфия» (1974–1978) написан от лица древнеримской поэтессы времён Августа (чьи стихи в действительности не сохранились). Ряд стихотворений приписан Арно Царту — вымышленному эстонскому поэту, увлечённому средневековым Китаем (эта литературная мистификация Шварц была подхвачена Кривулиным; Стратановский и Александр Миронов также написали по стихотворению от лица Царта).
Ещё одна маска Шварц — «Лавиния, монахиня ордена Обрезания сердца». Этот образ связан с такой важнейшей стороной миросозерцания Шварц, как религиозный синкретизм, соединение как будто несовместимого духовного опыта разных конфессий и цивилизаций. Монастырь из «Трудов и дней Лавинии» (1984) — в каком-то смысле средоточие всего человеческого духовного опыта:
Где этот монастырь — сказать пора:
Где пермские леса сплетаются с Тюрингским лесом,
Где молятся Франциску, Серафиму,
Где служат вместе ламы, будды, бесы,
Где ангел и медведь не ходят мимо,
Где во́роны всех кормят и пчела, —
Он был сегодня, будет и вчера.
Однако непокорный дух Лавинии не готов подчиниться даже уставу такого монастыря — в конце концов её изгоняют оттуда, и она строит свой уединённый скит в лесу, где продолжает общаться с приставленным к ней Ангелом-Волком, затем превращающимся в Ангела-Льва. В более поздней «Прерывистой повести о коммунальной квартире» (1996) в одной ленинградской коммунальной квартире оказываются православный святой, хасид-каббалист, суфий (работающий чистильщиком обуви) и мальчик-Будда.
Елена Шварц. Труды и дни Лавинии, монахини из ордена Обрезания Сердца. Ardis Publishing, 1987 год
Елена Шварц. Корабль. Самиздат, 1982 год
Елена Шварц. Стихотворения и поэмы. Самиздат, 1976 год
Елена Шварц. Войско. Оркестр. Парк. Корабль. Четыре машинописных сборника. Common Place, 2018 год
Елена Шварц. Труды и дни Лавинии, монахини из ордена Обрезания Сердца. Ardis Publishing, 1987 год
Елена Шварц. Корабль. Самиздат, 1982 год
Елена Шварц. Стихотворения и поэмы. Самиздат, 1976 год
Елена Шварц. Войско. Оркестр. Парк. Корабль. Четыре машинописных сборника. Common Place, 2018 год
Елена Шварц. Труды и дни Лавинии, монахини из ордена Обрезания Сердца. Ardis Publishing, 1987 год
Елена Шварц. Корабль. Самиздат, 1982 год
Елена Шварц. Стихотворения и поэмы. Самиздат, 1976 год
Елена Шварц. Войско. Оркестр. Парк. Корабль. Четыре машинописных сборника. Common Place, 2018 год
Шварц как будто пытается вместить в свой поэтический мир всю вселенную; характерный пример — «Четыре элегии на стороны света» (1978) и дописанная позднее «Большая элегия на пятую сторону света» (1997) с их космизмом и универсализмом. Поэт — равный собеседник Бога, способный своим лирическим экстазом, своей священной пляской преобразовать и спасти мир — как в стихотворении «Танцующий Давид» (1978):
Нам не бывает больно,
мучений мы не знаем,
и землю, горы, волны
зовём — как прежде — раем.
О Господи, позволь
твою утишить боль.
В то же время эта огромная вселенная у Шварц имеет способность сжиматься, становиться крохотной и кукольной. Мистическое и космическое, в традициях Гофмана и «петербургского текста», проявляется в «низком» и будничном. Сигналом этих резких изменений масштабов реальности (порождающих особого рода метафизический юмор) служат, как и у Стратановского, языковые сдвиги. Шварц, например, часто говорит о глобальном и космическом «детским» языком:
Авраам лимоном сияет, в дуплах светлые духи роятся,
На лепестках стада оленей, серн,
Юдифь летает синей белкой,
И орехи грызёт и твердит: Олоферн, Олоферн.
А Ной смолит большую бочку и напевает
(Ведь ты возьмешь меня туда,
Когда поднимется вода?)
И молнией златой Илья всё обвивает.
В процитированном стихотворении «Книга на окне» (1982) Библия уподобляется «большому древу», и это очень характерное для Шварц слияние: сращение природного и культурного. Сама природа находится у неё в процессе бесконечного превращения, её царства и области перетекают друг в друга, и человек вовлечён в этот бесконечный процесс творческой и опасной «смертожизни»:
Предчувствие жизни до смерти живёт.
Холодный огонь вдоль костей обожжёт,
когда светлый дождик пройдёт
в день Петров на изломе лета.
Вот-вот цветы взойдут алея
на рёбрах, у ключиц, на голове.
Напишут в травнике — Elena arborea —
во льдистой водится она Гиперборее
в садах кирпичных, в каменной траве.
Говоря о поэзии Шварц, невозможно обойти вниманием её подход к просодии. В течение всего своего почти полувекового творческого пути она пользовалась полиметрическим стихом Полиметрией называется использование разных стихотворных метров (например, ямба и хорея) в одном произведении. на силлабо-тонической основе (вслед за Хлебниковым и ранним Заболоцким, но более последовательно, чем они). По аналогичному пути шёл Стратановский и Айги (впрочем, он не пользовался рифмой). Этот путь отличен от пути, к примеру, Маяковского и Бродского, шедших от силлаботоники к тоническому стиху Тоническим, или акцентным, называют стихосложение, построенное на равенстве ударений в строках, при этом число слогов между ударениями может быть свободным. Этим тонический стих отличается от силлабо-тонического, в котором равны и количество ударений, и количество слогов между ударениями, и от таких переходных форм от силлаботоники к тонике, как дольник и тактовик. .
Одна из характерных для Шварц поэтических форм — «маленькая поэма», состоящая из просодически разных фрагментов, с прерывистым, иногда скрытым от читателя сюжетом. Образцом этого жанра Шварц считала «Форель разбивает лёд» Кузмина; примеры её собственных «маленьких поэм» — «Чёрная Пасха» (1974), «Горбатый миг» (1974), «Мартовские мертвецы» (1980).
Александр Миронов (1948–2010) начинал в середине 1960-х в группе хеленуктов, но к 1970-х годам его поэтика заметно изменилась. Миронов этого периода ближе всего к постмандельштамовской ассоциативной поэтике. С другой стороны, подчёркнутая музыкальность, завлекающая звуковая стихия его стихов заставляла вспомнить о блоковской линии — так же как их мистический бэкграунд:
Чуть солей, чуть кровей — придушить и размять,
трижды плюнуть на Запад, в мурло Велиарово…
Ах, скажи мне, моя Голубиная Мать,
кто варил это страшное нежное варево?Кто варил — тому здесь уже больше не быть:
он варить-то сварил, а расхлёбывать — ворону.
Почему же так страшно мне переходить
на ту милую, дальнюю, праздную сторону?
При этом интеллектуальные источники поэзии Миронова скорее вызывают параллели с Кузминым и Клюевым: это гностическая традиция и связанное с ней русское сектантство. Сквозной мотив его поэзии — взаимная тождественность Эроса и Танатоса, предельная уязвимость человека перед тёмными и соблазнительными энергиями. Апофеоз этой линии его творчества — стихотворение «Осень андрогина» (1978), ставшее своего рода визитной карточкой Миронова:
Эхо с Нарциссом вовек не слиться.
В зеркале время плывёт, дробится:
Плавают, словно в пустыне белой
Части тела:
Всем зеркалам суждено разбиться,
Всем образам надлежит святиться
В лоне огня, в нутряной постели,
В красной купели.
С этой заворожённостью «смертожизнью» (которая сближает его с Шварц — с той разницей, что у Миронова гораздо острее проявлена тёмная, изнаночная, гибельная сторона этой заворожённости) связана вторая сквозная тема — тема языка, который у Миронова предстаёт живым, биологическим царством, «флорой словесной», и неотделим от человеческой телесности:
сколько времени прошло веков минут
как вошёл в меня и душит чей-то блудв каждый уд вошёл и в ах и в ох и в кхе
отпечатался бельмом на языкебез движенья но в оргазме и в петле
замер он на полуслове на иглеи ни встать ему ни сесть ему ни лечь
вдруг умрёшь впотьмах и превратишься в речь?
В 1990-х годах из поэзии Миронова исчезает благозвучие, она становится резкой, сюрреалистически-афористичной; в стихах следующего десятилетия прямота и «дикость» лирического жеста достигает предела.
Олег Охапкин (1944–2008) — единственный из ленинградских поэтов своего поколения, чьим непосредственным учителем был Бродский. При этом его можно назвать самым почвенническим (по идеологической ориентации) и самым консервативным (по поэтике) из видных поэтов ленинградской «второй культуры». Однако от авторов кожиновского круга Охапкина отличает резко неприязненное отношение к имперской государственности, к «звероподобному вздыбленному закону». Но мир светской культуры и православной церковности для него един: он может написать стихи на смерть патриарха Алексия I c эпиграфом из Анненского и с упоминанием Мандельштама. Возвышающие слог архаизмы, отсылающие к XVIII веку эксперименты с силлабическим стихом сочетаются у Охапкина с широким использованием заимствованной из англоязычной поэзии XX века консонантной рифмовки Консонантная (консонансная, диссонансная) рифма — вид рифмы, в которой совпадают заударные согласные, но не совпадают ударные гласные. Примеры: мысли — гасли, дерево — зарево, самолёт — сервелат. . Поэзия Охапкина исповедальна, пряма по мысли и мажорна, несмотря на пронизывающие её трагические мотивы:
Какое счастье слушать мир,
Впускать в окно газон, эфир,
Молву вселенской тишины,
В начале мая без луны
Внимать созвездью Лиры
В тиши родной квартиры.
Это цельное и экзистенциально оптимистическое мировосприятие с трудом выдерживало испытание культурной и социальной реальностью 1970–80-х годов.
Не случайно с 1980-х годов продуктивность Охапкина снижается, а другой яркий поэт, Борис Куприянов (р. 1949), вовсе оставляет поэзию, приняв духовный сан. В результате его «тёмные», погружённые во внутреннюю жизнь языка стихи (в том числе большая поэма «Время встречи», 1976–1981) в известной мере выпали из сферы внимания историков литературы:
Здравствуй, лирик, ньютоновой крепи не знающий, здравствуй!
Здравствуй, трагик, познавший ньютоновы крепи.
Отлетаю. Листок стихотворный не властвуй!
Глупо только в пустыне, но наши умнейшие степи
научили летать не одни только тучи железа, —
этим тучам подстать наши души словесного среза.
Противоположный полюс ленинградской неподцензурной поэзии воплощает Аркадий Драгомощенко (1946–2012). Уроженец Западной Украины, он во многом остался чуждым петербургской традиции (с которой его сближает разве что холодновато-элегический тон его поэзии). Раннее творчество Драгомощенко (1970-х годов) ещё во многом опирается на общую традицию русского верлибра второй половины XX века (в Ленинграде представленного Геннадием Алексеевым и Сергеем Кулле). Однако уже в этот период в стихах Драгомощенко бросаются в глаза индивидуальные особенности: склонность к инверсиям, особый подход к ритму и образу.
Меня разбудили и объяснили,
что во сне я видел огонь
и вечерние реки,
и в них светились ветви ивы.Сон, который мне рассказали,
напоминал рисунок
на пористой влажной бумаге:
две-три нетрудные тени,
ясное придыхание туши,
белый трилистник
над бесснежным холмом
Зрелая поэтика его формируется под влиянием англоязычной «языковой поэзии» «Языковая школа», «школа языка» (Language school) — американская поэтическая школа XX–XXI веков. Состояла в первую очередь из поэтов, группировавшихся вокруг журнала L=A=N=G=U=A=G=E. «Языковые» поэты опирались на достижения своих предшественников, таких как объективисты и школа Black Mountain, и создавали изощрённую интеллектуальную поэзию: несмотря на то что теоретики школы подчёркивали роль читателя в осмыслении произведения, чтение «языковых» поэтов требует серьёзной гуманитарной подготовки (в связи с чем критики «школы языка» называли эту поэзию слишком «университетской», иронической, безэмоциональной). Среди авторов «языковой школы» — Чарльз Бернстин, Рон Силлиман, Лин Хеджинян, Сьюзен Хау, Рэй Анмантраут, Розмари Уолдроп. и наследия польско-украинского барокко. Предельно усложнённые образы созданного в 1980-е цикла «Небо соответствий» дают повод для сопоставления с возникшим в тот же период в Москве метареализмом. Однако Драгомощенко, в отличие от метареалистов (даже от наиболее близкого ему Алексея Парщикова), не стремится создать визуально выразительный образ. Если Мандельштам в 1930-е годы, формируя принцип своей поэтики в беседе с Сергеем Рудаковым, призывает «перекрывать реальное ещё более реальным», то у Драгомощенко реальное «перекрывается» зыбким и абстрактным, образ, едва сформировавшись, распадается. Всякая картина мира демонстрирует свою условность, возвращаясь в самодовлеющую стихию речи:
То
пишется, что не написано, следуя к завершенью.
Что написано — не завершено,
постоянно следуя к завершенью.
Выбор значения.
Искушение неким значеньем.
Затем множественное число. Вишня,
висок покуда покоятся в равенстве…
как соцветье стены в изученьи дождя.
В 1990-е — 2000-е годы поэтика Драгомощенко совершает новую эволюцию, в ней появляются трагические ноты, заметнее становится напряжение между личным и безличным. Именно в этот период стихи Драгомощенко начинают оказывать важное влияние на молодых авторов.
Виктор Ширали
Владимир Кучерявкин
Елена Игнатова
Виктор Ширали
Владимир Кучерявкин
Елена Игнатова
Виктор Ширали
Владимир Кучерявкин
Елена Игнатова
Выше перечислены лишь некоторые видные представители ленинградской неподцензурной поэзии. В этом кругу были и другие заметные авторы: так, в начале 1970-х большие ожидания связывались с несложными, но звучными, интонационно яркими стихами Виктора Ширали (1945–2018), но выход в 1979 году его книги (что было редчайшим исключением) стал разочарованием. Ярко начинали Лев Васильев (1944–1997) и Евгений Вензель (1947–2018), автор ряда сюрреалистически-острых, резких, графичных стихотворений. Волнующие и искусно сделанные, неоклассические по форме стихи есть у Елены Игнатовой (р. 1947). Поэзия Владимира Кучерявкина (р. 1947) — меланхолически-остранённый бытовой эпос; он известен и как переводчик Паунда. Связующим звеном между миром андеграунда и кругом Александра Кушнера стало творчество Юрия Колкера (р. 1946) — одного из составителей машинописной антологии ленинградской неподцензурной поэзии «Острова» (1982). Особый кружок составляли Лев Дановский (1947–2004), Владимир Гандельсман (р. 1948) и Валерий Черешня (р. 1948). На этих поэтов влияли одновременно Ходасевич и Пастернак. Самый известный представитель этой группы, Гандельсман, по-настоящему сложился как поэт уже в 1990-е годы в США.
Михаил Генделев
Юрий Колкер
Владимир Гандельсман
Михаил Генделев
Юрий Колкер
Владимир Гандельсман
Михаил Генделев
Юрий Колкер
Владимир Гандельсман
Особой была судьба Михаила Генделева (1950–2009), который участвовал в ленинградской «второй культуре», но как поэт сложился после эмиграции в 1977 году в Израиль. Одическая и «милитарная» традиция русской поэзии, со всеми возможными отсылками (от Державина до Гумилёва) накладывается у него на реалии арабо-израильских войн и получает новый, неожиданный модус:
И я пройду среди своих
и скарб свой уроню
в колонне панцирных телег
на рыжую броню
уже совсем немолодой
и лекарь полковой
я взял луну над головой
звездою кочевой
Богатство отсылок к прошлому культуры сочетается у Генделева с необычным интонированием строки и ещё более необычной графикой (центрированные по середине страницы «стихи-бабочки»).
К следующему поколению, дебютировавшему уже в 1980-е годы, принадлежал Василий Филиппов (1955–2013). Судьба этого поэта, который смолоду находился на грани ментального расстройства и большую часть жизни провёл в психиатрических больницах, драматична. Почти все стихи Филиппова (несколько сотен текстов) написаны в 1984–1986 годах, когда он имел возможность участвовать в литературной жизни. Они производят впечатление странного потока сознания, в котором причудливо смешиваются жизненные происшествия, читательские впечатления и фантазии, а реальные люди (в том числе поэты — Шварц, Стратановский, Миронов) превращаются почти в мифологических персонажей. Всё же вместе — преображённый, метафорически претворенный мир «второй культуры» на самом закате советской эры:
В Ленинграде художники и поэты живут в своих норах,
Сходят со сцены,
И выращивают детей с женскими лицами цикламены.
Василий Филиппов
Дмитрий Волчек
Сергей Завьялов
Василий Филиппов
Дмитрий Волчек
Сергей Завьялов
Василий Филиппов
Дмитрий Волчек
Сергей Завьялов
Представители этого поколения, связанные с миром «второй культуры», к середине 1980-х только намечают траекторию своего развития. Поэтика Дмитрия Волчека (р. 1964), основателя «Митиного журнала» «Митин журнал» — неподцензурный литературный журнал, основанный Дмитрием Волчеком. Выходил в самиздате с 1985 года, с 1993-го печатался типографским способом. Кредо журнала — публикация текстов, «которые не решится печатать кто-либо другой». Среди авторов «Митиного журнала» — Анри Волохонский, Аркадий Драгомощенко, Ярослав Могутин, Татьяна Щербина, Александр Ильянен, Шамшад Абдуллаев; в журнале публиковались переводы из Жана Кокто, Бориса Виана, Сэмюэла Беккета, У. С. Берроуза, Габриэль Витткоп и многих других. (1985), в большей степени, чем самиздат предыдущего поколения, ориентированного на современную западную культуру, восходила к Ходасевичу, Георгию Иванову — но также к ОБЭРИУ и сюрреализму; Сергей Завьялов (р. 1958) формировался на стыке европейского авангарда и классической филологии.
Значительнейшим явлением конца 1970-х — начала 1980-х годов стал дебют Олега Юрьева (1959–2018). Начав с мастерских неоклассических стихов в общем русле ленинградской поэзии конца 1970-х годов (в основном они были опубликованы посмертно), он с 1981 года обретает свой путь, основанный в этот период, по собственному определению поэта, на «дисцилляции, отделении сивушных масел советской жизни» и на обращении к вечному и довременному. Исповедальное начало последовательно изгоняется; создаётся сдвинутый по отношению к грамматической норме язык, который в сочетании с одической интонацией и с особой, открытой, подвижной пластикой создаёт ощущение «ночного», «изнаночного», находящегося в постоянном и часто катастрофическом процессе созидания/разрушения мира:
Что я сказать могу без спора?
— Кругла земля, она тверда,
Щемящие щиты Боспора
Опять тесны как никогда,
А там, на Севере, полночный
Костёр катается по мху,
Всей пустотою позвоночной
Луна приникла ко штыку…
Поэтика Юрьева формировалась и развивалась в контексте кризиса идеи большой и единой культуры (такое единство уже выглядело утопическим), а с другой стороны, нарастающего отчуждения от социума. В этой ситуации опорой казались, опять-таки по определению Юрьева, «локальные культуры» и максимальная требовательность к каждому тексту, контроль за любыми его составляющими. Возникшая в 1984 году группа «Камера хранения», включавшая кроме Юрьева Ольгу Мартынову (р. 1962), Дмитрия Закса (р. 1961) и автора этой лекции, должна была стать одной из этих локальных культур, которым пришлось существовать уже в новых условиях — в перестройку и в постсоветское время.