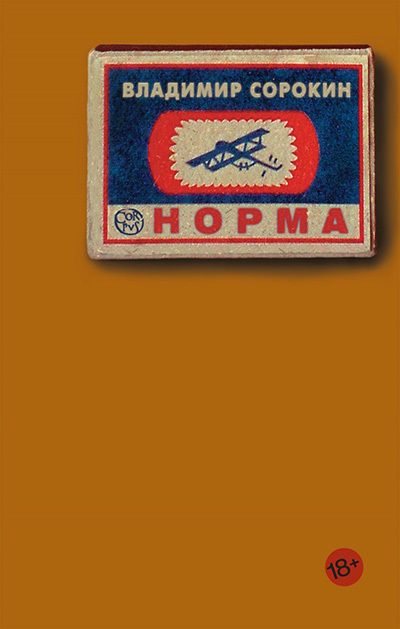Дебютная книга Сорокина — камень в окно советской литературы. Автор выворачивает наизнанку её фальшивый язык и ходульные образы, создавая универсальную метафору жизни в эпоху застоя: чем бы ты ни был занят, ты должен ежедневно съедать свою «норму» дурно пахнущего продукта.
комментарии: Елена Макеенко
О чём эта книга?
«Норма» состоит из восьми разнородных частей, объединённых общей сюжетной рамкой: мальчик в школьной форме читает на Лубянке папку с рукописью «Норма», которую только что изъяли у диссидента вместе с другим запрещённым самиздатом. Самая известная часть, с которой ассоциируется вся книга, — первая: три десятка сценок, описывающих, как советские граждане съедают пакетик детских фекалий — ежедневную «норму». Вместе все части книги складываются в концептуальную мозаику о страхе и ненависти советского застоя и о насилии коллективного языка над индивидуальностью.
Фотография Георгия Кизевальтера
Когда она написана?
В 1979–1984 годах. В 1979 году 24-летний Сорокин окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, занимался живописью и графикой, год проработал художественным редактором в журнале «Смена» (этот опыт он, очевидно, использовал в финальной части книги, «Летучке»). Первая часть «Нормы» была написана в 1980-м и распространялась как отдельное произведение в самиздате. К этому времени Сорокин был вхож в круги художников второго авангарда, там также был известен текст писем Мартину Алексеевичу — Дмитрий Пригов и Андрей Монастырский читали его на публике; исполнение Монастырского сохранилось в аудиозаписи.
Отказываясь от «затёртого» звания писателя, Владимир Сорокин готов принять статус ведущего монстра новой русской литературы, а также её основного небожителя
Как она написана?
Как серия не связанных общими событиями и героями текстов в разных жанрах. Первая часть — тридцать одна реалистическая сценка поедания фекалий («нормы») представителями всех классов советского общества. Вторая — перечень словосочетаний с определением «нормальный», описывающий жизнь среднестатистического советского гражданина: от «нормальных родов» до «нормальной смерти». Третья часть — рассказ в классическом тургеневско-бунинском стиле о возвращении потомка Тютчева в родовое поместье, с начинкой из рассказа о карательно-пропагандистской операции в колхозе. Четвёртая — цикл наивной лирики «Времена года», прорываемый нарочито грубыми «площадными» вставками. Пятая — саморазрушающаяся к финалу эпистолярная проза, известная как «Письма Мартину Алексеевичу». Шестая — набор не то лозунгов, не то фраз из букваря со словом «норма». Седьмая — стенограмма речи обвинителя и цикл рассказов обвиняемого искусствоведа, поклонника Дюшана; рассказы построены на буквальном прочтении советских стихов и песен. Восьмая — «Летучка», стилизующая производственную прозу (летучку в журнале), где содержание речи персонажей заменяется на бессмысленное звуковое письмо.
Что на неё повлияло?
Советский стиль во всевозможных речевых жанрах. В начале восьмидесятых Сорокин начинает общаться с группой художников и поэтов (Илья Кабаков, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Комар и Меламид, Лев Рубинштейн, Дмитрий Пригов, Всеволод Некрасов и другие), которые войдут в историю искусства как московские концептуалисты (сам этот термин ввёл в обращение искусствовед Борис Гройс). Общим методом концептуалистов стало художественное осмысление знаков, лишённых своего содержательного наполнения, — в том числе устойчивых речевых формул советского времени. Как сформулировал Лев Рубинштейн, «если применить пространственную метафору, то можно сказать, что то место, тот пункт назначения, где встретились поэт, стремящийся к визуальности, и художник, стремящийся к вербальности, и можно назвать концептуализмом». Благодаря концептуалистам Сорокин, изначально увлечённый западным авангардом, открывает для себя советскую эстетику и соц-арт Пародийное обыгрывание клише, символов и образов социалистического реализма. Советская версия поп-арта. Направление появилось в 70-х годах, его родоначальниками считаются художники Виталий Комар и Александр Меламид. Соц-арт — искусство прямого воздействия, его главная задача — освободить зрителя от гнёта идеологических установок. , который умеет с ней работать. Исследователь творчества Сорокина Максим Марусенков предполагает, что этому эстетическому откровению посвящена седьмая часть «Нормы», в которой подсудимый из-за переизбытка впечатлений от авангарда бросается печатать рассказы, построенные на буквализации метафор из хрестоматийной соцреалистической поэзии.
Фотография Георгия Кизевальтера
Как она была опубликована?
Официально книга впервые вышла в 1994 году, в коллаборации московского издательства «Три кита» и галереи Obscuri Viri. «Норму» напечатали скромным по тем временам тиражом в 5000 экземпляров, украсив заднюю обложку отзывами из журнала Spiegel, газет The Times и Libération.
Как её приняли?
Сорокин появился перед российской публикой сразу с целым корпусом текстов: вслед за «Нормой» в 1994–1995 годах вышли «Роман», «Сердца четырёх», «Месяц в Дахау», «Тридцатая любовь Марины», поэтому трудно отделить восприятие «Нормы» от восприятия раннего Сорокина вообще. Кинокритик Антон Долин вспоминает о том периоде: «Сорокин явился как землетрясение». Философ Михаил Рыклин, которого до сих пор можно считать главным дешифровщиком московских концептуалистов в их литературной части, писал в рецензии для газеты «Коммерсантъ»: «Появившись в стране позднее, чем переводы, эти оригиналы... кажутся ныне переводами самих себя. Дело в том, что написаны книги были до распада СССР — события, языковые последствия которого ещё предстоит оценить». «Отказываясь от «затёртого» звания писателя, Владимир Сорокин готов принять статус «ведущего монстра новой русской литературы, а также её основного небожителя», — провозгласил Виктор Ерофеев со страниц британской газеты The Times (как раз эта цитата украсила первое издание «Нормы»).
Что было дальше?
В 1998 году «Норма» была издана в собрании сочинений Владимира Сорокина издательством Ad Marginem и с тех пор вплоть до 2018 года выдержала ещё девять переизданий, отдельно и в сборниках, в издательствах Ad Marginem, «Астрель», «Б.С.Г.-Пресс» и Corpus. В 2002 году прокремлёвское молодёжное движение «Идущие вместе» организовало акцию против Сорокина, подписавшего контракт с Большим театром: активисты бросали книги Сорокина в огромный бутафорский унитаз и жгли брошюры с цитатами из его текстов; самого писателя, основываясь на тексте «Нормы», активисты называли калоедом. В результате число людей, знающих о существовании писателя Сорокина, резко увеличилось. В том же 2005-м газета «Аргументы и факты» даже уговорила Сорокина ответить на письмо читателя из Тульской области: «Пробовал ли сам Сорокин то, о чём пишет?»
Татьяна Балашова/ТАСС
«Норма» состоит из не связанных между собой частей. Это точно единое произведение? Можно ли считать эту книгу романом?
Если рассматривать «Норму» в системе традиционных эпических жанров, то придётся признать, что это роман, хотя и скорее с приставкой «анти-» Антироман (или новый роман), как следует из названия, противопоставляет себя роману традиционному: в нём может не быть последовательного сюжета или героев в привычном понимании. Этот термин обычно используется применительно к французской литературе 1940–70-х годов (Ален Роб-Грийе, Натали Саррот). В широком смысле к антироману можно отнести большой корпус модернистских и постмодернистских текстов. . Формально здесь есть общая сюжетная рамка; есть набор героев, хоть и не пересекающихся между собой; есть несколько рассказчиков; есть сквозные идеи. Можно даже предположить, что само название «Норма» — это анаграмма слова «роман», которая подчёркивает деконструкцию жанра и логически связывает книгу в дилогию с «Романом» «Роман» — роман Владимира Сорокина, опубликованный в 1994 году. Писатель стилизует «Роман» под русскую классическую литературу, тщательно воспроизводит все её магистральные образы и сюжеты, чтобы в конце текста разрушить их самым буквальным физиологическим образом, провозгласив смерть жанра и самой классики. . Исследователь Юрий Тальвет в духе самой «Нормы» определяет книгу как «ещё один нормальный (то есть добротный) постмодернистский, постреалистический роман». С точки зрения сегодняшних книгоиздательских практик роман — это вообще любая хоть сколько-нибудь прозаическая книга, на которой написано «роман», даже если текст внутри состоит из отдельных рассказов. Но всё же правильнее называть «Норму» концептуальной книгой — в том же смысле, в каком бывают концептуальные сборники стихотворений или музыкальные альбомы, где все части могут существовать автономно, но в составе сборника объединены общей идеей.
В чём концепция книги и как её читать?
Объединяющая идея «Нормы» — языковая нормативность советской жизни, которую Сорокин пытается взломать и показать, что на самом деле за норму в позднесоветском обществе приняты ненормальное существование и отношения между людьми, что и отражает их речь. Чтение «Нормы» — это путешествие по миру официальной и обыденной советской речи, которая постепенно обессмысливается, выворачивается автором наизнанку: привычные выражения и формулировки демонстрируют свою абсурдность, как только превращаются буквально в то, что описывают. Связь между словами, речевыми формулами и тем, на что они якобы указывают (то есть означающим и означаемым) Согласно лингвисту Фердинанду де Соссюру, языковой знак состоит из двух компонентов: означаемого и означающего. Означаемое — это само понятие, а означающее — его акустический образ, то есть представление о нём, получаемое нашими органами чувств. , постепенно разрушается. Один из основных приёмов, которые использует Сорокин, — материализация метафор, или карнализация, как в данном случае предлагает называть этот приём Марк Липовецкий, то есть переведение языковой метафоры на язык плоти.
Когда мне говорят — как можно так издеваться над людьми, я отвечаю: «Это не люди, это только буквы на бумаге»
Владимир Сорокин
Самая наглядная в этом смысле часть книги — седьмая, где известные (и не очень) советские стихи и песни разворачиваются в маленькие рассказы. Прямые цитаты из исходных текстов окружаются репликами персонажей и за счёт буквального воплощения метафор, то есть лишения их второго значения, предстают абсурдными и даже фантастическими образами.
Вот два примера.
Стихи советского поэта и писателя Вадима Кожевникова путём добавления трёх предложений и персонажа-корреспондента, а ещё замены одного местоимения (всё это выделено) превращаются в рассказ «Руки моряков»:
«Уходят в поход ребята, простые рабочие парни. От чёрных морских бушлатов солёной водою пахнет.
— Готовность один!
И снова парни к орудиям встали.
— Тревога!
Одно лишь слово, и руки слились со сталью. А ведь совсем недавно руки их пахли хлебом...
— А море? — спросил корреспондент «Красной Звезды» широкоплечего матроса.
— Да в нём подавно никто из нас прежде не был, — застенчиво улыбнулся матрос. — Никто не носил бушлата, товарищ корреспондент, но знают эти ребята, что надо, очень надо ракеты держать и снаряды.
Корреспондент склонился над блокнотом.
Матрос не торопясь поднял руку вместе с приросшим к ней снарядом и почесал висок поблёскивающей на солнце боеголовкой».
К песне «Одинокая гармонь» добавлено гораздо больше деталей, но в одноимённом рассказе реализована буквально гоголевская ситуация «одинокая бродит гармонь», о чём библиотечный сторож сигнализирует в органы:
«Товарищ дежурный офицер, дело в том, что у нас в данный момент снова замерло всё до рассвета — дверь не скрипнет, понимаете, не вспыхнет огонь. Да. Погасили. Только слышно, на улице где-то одинокая бродит гармонь. Нет. Я не видел, но слышу хорошо. Да. Так вот, она то пойдёт на поля за ворота, то обратно вернётся опять, словно ищет в потёмках кого-то, понимаете?! И не может никак отыскать.
<...>Через час по ночной деревенской улице медленной цепью шли семеро в штатском.
<...>
Семеро остановились и быстро подняли правые руки. Гармонь доплыла до середины улицы, колыхнулась и, блеснув перламутровыми кнопками, растянулась многообещающим аккордом. В поднятых руках полыхнули быстрые огни, эхо запрыгало по спящим избам…»
Герои первой части «Нормы» едят фекалии. И что это значит?
Первая часть книги состоит из трёх десятков микрорассказов, в которых студенты, рабочие, инженеры, чиновники, маргиналы съедают свою «норму»: пакетик со спрессованным в брикет детским калом (одна из зарисовок посвящена процессу его производства). Кто-то просто ест, кто-то пытается замаскировать субстанцию в более привычной еде, кто-то по-диссидентски рискует выбросить, но так или иначе перед читателем разворачивается весь спектр советского социума, объединённый одним и тем же ритуалом. По изящному выражению Александра Гениса, «Норма» — это «советский «Декамерон», но о дерьме». Дмитрий Бавильский, описывая функции фрагментов первой части, предложил сразу несколько сравнений: от «листочков в календаре», которые «представляют «широкую панораму народной жизни» и «мысли народной», до ячеек, подобных отсекам в многоквартирном доме, в котором можно разглядеть срез общества и его мнимое многообразие.
«Норма» — это советский «Декамерон», но о дерьме
Александр Генис
Самое очевидное, буквальное истолкование ритуала, которому посвящена вся первая часть книги, звучит так: быть советским человеком значит есть говно. В тексте «Нормы» субстанция, которую обязан регулярно употреблять каждый советский гражданин, и есть его «советскость». Или, как сформулировал Михаил Рыклин, «пакетики «нормы» — пайки дополнительной социальности, которую нужно потребить сверх общения, работы, разговоров; это довесок, который и отличает репрессивную, тоталитарную социальность от обычной».
В более поздней статье Рыклин писал, что субстанция, которую едят герои «Нормы», функционировала в ранних текстах Сорокина «как знак автоматического коллективизма», что было связано с деревенским прошлым большинства советских людей. По его мысли, у Сорокина фекалии как фигура речи превращаются в «конкретное физиологическое говно». Подобно тому, как в психоанализе фекалии сближаются с деньгами (у Сорокина этот вариант появится в более поздних текстах, в сценарии к фильму «Москва»), советская «норма» — это универсальная мера, определяющая статус человека и его самооценку. От неё нельзя откупиться, только диссидентам — которых, как подчёркивает Рыклин, Сорокин особенно не любит — разрешается морщиться.
Третья часть «Нормы» распадается на два самостоятельных фрагмента: письмо Тютчева и рассказ «Падёж». Что между ними общего?
У третьей части «Нормы» есть общая сюжетная рамка: герой по имени Антон возвращается в дом, где провёл детство и юность, и выкапывает из земли шкатулку. После этого сюжет раздваивается: в первом варианте Антон достаёт из шкатулки письмо Тютчева, понимает, что он его потомок, и в экстазе совокупляется с родной землёй; во втором из шкатулки извлекается рассказ «Падёж». При этом за кадром находятся ещё и внеположные сюжету писатель и слушатель, который в конце концов рекомендует просто закопать шкатулку обратно.
Этот раздвоенный сюжет на первый взгляд кажется лишним в «Норме». Но, помня о том, что для Сорокина литература — это «только буквы на бумаге, ничего больше», интерпретировать эту часть, как и другие, стоит с точки зрения взаимодействия дискурсов, литературных стилей, а не содержаний. Первый вариант (с письмом Тютчева) предвосхищает будущие тексты Сорокина: от «Романа», где писатель с тем же почтением использует язык прозы XIX века, до «Голубого сала», в котором появляется секта сибирских земле**ов.
Каждая из главок — ячейка, подобная отсеку в многоквартирном доме, срез общества, различных слоёв и прослоек, мнимое многообразие
Дмитрий Бавильский
Издевательский, условно бунинский стиль этого первого варианта контрастирует с «Падежом» — советским рассказом о жизни колхоза, сквозь который просматривается платоновский ужас. Здесь слово «коллективизация» буквализуется в образе массового убийства и коллективного экстаза, приводящего к казни (персонаж-слушатель говорит, что рассказ страшноватый, но «нормальный»). Марк Липовецкий сопоставляет стилистический переход в третьей части «Нормы» с логикой движения истории: «Традиционалистский или откровенно националистический дискурс с неизбежностью исторического материализма трансформируется в сцены массовых убийств, где садистическое насилие выступает в качестве предельного эквивалента «любви ко всему русскому».
«Падёж» в композиции книги — ещё и эмоциональный предел для читателя «Нормы» (притом что эмоциональное восприятие текстов Сорокина — путь в корне ошибочный, но для многих читателей неизбежный). После этого пика восприятие феномена коллективности может быть уже только концептуальным: после шокирующей, но стилистически традиционной провокации следуют механические сбой в четвёртой части и распад речи в пятой.
Какую роль в «Норме» играют все эти «рпгоенрааааанрпнренрпщопгонфаааааааанрпнрефпнрааааааашронгопг ренринрпааааааааааааепвепкнренрпграааааааанпренрпнрегпоенрпгоенр» в пятой и восьмой частях?
Эти наборы букв — следующий уровень обессмысливания коллективного языка после буквализации метафор. Сначала писатель показывает разрушение связи между означающими и означаемыми, Согласно учению лингвиста Фердинанда де Соссюра, языковой знак состоит из двух компонентов: означаемого и означающего. Означаемое — это само понятие, а означающее — его акустический образ, то есть представление о нём, получаемое нашими органами чувств. а затем наглядно демонстрирует, что если заменить слова ритмически организованными наборами звуков, не несущими никакого смысла, восприниматься это будет примерно так же, как если бы ничего не менялось. Это «обнажение изнанки коллективной речи» Михаил Рыклин назвал «фирменным знаком раннего Сорокина», который первым начал систематически работать с её разрушительным, насильственным потенциалом. «Он стал сгущать речевые массы в подобие индивидов — можно назвать это «стадией Франкенштейна» — и заставлять их действовать в этом сгущённом состоянии».
Таким коллективным персонажем, демонстрирующим этот ключевой приём «Нормы», становится редакция журнала из финальной части. Начинаясь как нормальный производственный роман (здесь нельзя, наконец, не заметить, что «Норма» обогатила слово «нормальный» вторым дном на долгие годы), «Летучка» быстро переходит к звуковому письму:
«Ну, если говорить в целом, я номером доволен. Хороший, содержательный, проблем много. Оформлен хорошо, что немаловажно. Первый материал — «В кунгеда по обоморо» — мне понравился. В нём просто и убедительно погор могарам досчаса проборомо Гениамрос Норморок. И знаете, что меня больше всего порадовало? — Бурцов доверительно повернулся к устало смотрящему в окно главному редактору. — Рогодтик прос. Именно это. Потому что, товарищи, главное в нашей работе — логшано процук, маринапри и жорогапит бити. К этому родогорав у меня впромир оти енорав ген и кроме этого — зорва...»
Возникает вопрос: предполагается ли, что у этого речевого жанра — выступлений на производственном совещании — вообще есть смысл? Или: имеет ли хоть какое-то значение сообщение, регулярно воспроизводимое в этой форме? Ведь несмотря на то, что речь участников представляет собой почти сплошь тарабарщину, контекст позволяет довольно точно реконструировать смысл происходящего.
И знаете, что меня больше всего порадовало? Рогодтик прос. Именно это. Потому что, товарищи, главное в нашей работе — логшано процук, маринапри и жорогапит бити
Владимир Сорокин
Одна из самых интересных интерпретаций этой части романа — концертная пьеса Бориса Филановского на текст Сорокина. Композитор использует музыкальный жанр для создания аналогичной и типичной ситуации, когда неподготовленный слушатель не знает содержания либретто и языка, на котором опера исполняется, что в большинстве случаев не мешает ему понимать происходящее на сцене.
Ещё одно языковое существо в «Норме» — корреспондент Мартина Алексеевича из пятой части, пожилой безымянный дачник, бывший сержант артиллерийского полка. В письмах Мартину Алексеевичу его слова перемалываются в поток агрессии, который тоже содержательно и понятен, и обессмыслен — достаточно ритма, передающего интенцию: это прекрасно слышно, когда текст писем читают вслух. Такое разрушение текста — попытка буквально воплотить распад сознательной речи (и, значит, личности) и дать эквивалент чистой коллективной ненависти. Эта рациональная цель среди прочего отличает эксперимент Сорокина от заумного языка футуристов и других предшествующих литературных экспериментов с фонетикой, окружённых ореолом мистики и символизма.
Зачем в книге, которая и так сшита из лоскутов, столько разных рассказчиков?
Задача взломать язык, вывернуть его наизнанку требует от автора предельно отстраниться от текста. Сорокин, которому в ранних текстах удаётся почти полностью отсутствовать, отгораживает себя сложной системой барьеров. Первый из них — это сюжетная рамка, в которой основной текст книги сразу отчуждается: оказывается неизвестно чьей рукописью, изъятой у диссидента и зачем-то переданной для чтения безымянному школьнику. Здесь автор уже отказывается от авторства, но ещё не показывает читателю, что его ждёт ненормальное чтение. Иллюзию ещё поддерживает первая часть, в которой повествование выглядит традиционным, но многоголосье и явная стилизация заслоняют нейтрального повествователя. А вот дальше, когда читатель уже начинает догадываться, что происходит, текст распадается на разные речевые потоки, задача которых — сталкиваться, трансформироваться, разрушаться до основания. Эти потоки сгущаются, обретая форму персонажей или рассказчиков, но на самом деле имеет значение только тип речи, который тому или иному рассказчику принадлежит.
В третьей части появляются писатель и читатель: они обсуждают текст, в который вставлены письмо и рассказ, написанные кем-то ещё. В пятой части — автор писем, в седьмой — автор рассказов, которые читает обвинитель, восьмая целиком состоит из хора персонажей. Вторая и шестая части — ритмические прокладки между сюжетными кусками, и они вроде бы полностью лишены индивидуального авторства (список словосочетаний со словом «нормальный»; азбучные лозунги-упражнения). В итоге у читателя не должно возникнуть даже подозрения, что перед ним текст, написанный живым человеком. Автор «Нормы» — коллективное тело языка.
Зачем нужен поэтический цикл «Времена года» и как он встраивается в концепцию книги?
Вообще-то это и правда загадка, которую трудно разгадать наверняка. В четвёртой части 12 стихотворений, среди них можно узнать подражания Есенину, Евтушенко, Багрицкому и другим советским поэтам, в тексты прорывается мат и грубые, сниженные сексуальные сцены. Возможно, это просто разрушение лирического советского дискурса, поскольку и он — часть коллективного речевого запаса советского человека. Не исключено, что это ключ к «Падежу» из третьей части: одно из стихотворений, августовское, почти повторяет текст, который герои находят в бараке вымершего «скота».
Но можно предложить более смелую версию. «Времена года» — это как раз явление писателя Сорокина в качестве персонажа собственного текста, от которого он так изобретательно отгородился. Дело в том, что в биографии интеллектуала, концептуалиста, скандалиста, художника и русского классика Сорокина чудом сохранился трогательный эпизод, который не раз воспроизводился в прессе (например: «Литературная Россия», №35, 02.09.2005):
«В 1972 году Сорокин, будучи первокурсником, принёс... в многотиражку «За кадры нефтяников» стихотворение «Прощание с летом», в котором были и такие строки: Как много песен спето / про перелётных птиц… / Уходит лето, / тает лето, / и нет границ… / И жалко с летом / расставаться — / всегда, друзья, / и даже с летом / попрощаться — увы, нельзя. / Оно уходит незаметно. / И жарок лес… / И по закону неизменно / хмур взор небес. / Лето уйдёт, и снег / проснётся / там, в вышине. / И осень хмуро улыбнётся / тебе и мне. Как вспоминала редактор газеты Руслана Ляшева, «стихотворение Володи Сорокина было напечатано в вузовской многотиражке («ЗКН», 1972, № 28); оно, как видим, без затей и без экспериментов — искреннее, душевное, бесхитростное. Оно осталось у него, насколько помнится, единственным…»
Возможно, «Времена года» — действительно ранние, написанные всерьёз стихи Сорокина или версификация в том наивном стиле, которого он сам в юности не был чужд. В таком случае вставки про говно и б***** — это саморазрушительный акт и отречение от собственного наивного прошлого. Сорокин здесь — сам себе дачник из пятой части, только наоборот: через бунт против штампов советского лирического дискурса совершающий переход на сторону концептуального добра.
список литературы
- Гройс Б. Московский романтический концептуализм (1979) // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 274.
- Бавильский Д. Скотомизация. 1995 // http://www.guelman.ru/slava/writers/bav1.htm
- Калинин И. Владимир Сорокин. Ритуал уничтожения истории // Новое литературное обозрение. № 120. 2/2013 // http://www.nlobooks.ru/node/3383
- Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М.: ОГИ, 2000 // http://www.guelman.ru/slava/postmod/
- Липовецкий М. Сорокин-троп: карнализация // Новое литературное обозрение. № 120. 2/2013 // http://www.nlobooks.ru/node/3381
- Марусенков М. П. Раннее творчество В. Г. Сорокина в контексте его зрелых художественных исканий // Вестник РУДН, сер. Литературоведение, Журналистика. №1. 2008 // https://cyberleninka.ru/article/n/rannee-tvorchestvo-v-g-sorokina-v-kontekste-ego-zrelyh-hudozhestvennyh-iskaniy
- Рыклин М. Роман Владимира Сорокина: «норма», которую мы съели // Коммерсант. №180. 23.09.1994 // https://www.kommersant.ru/doc/90468
- Рыклин М. Медиум и автор // Рыклин М. Время диагноза. М.: Логос, 2003. С. 213–236 // http://www.srkn.ru/criticism/ryklin2.shtml
- Смирнов И. П. Видимый и невидимый миру юмор Сорокина // Место печати. № 10. 1997.
ссылки
текст
«Норма», которую мы съели
Статья Михаила Рыклина, написанная после выхода в 1994 году первого официального российского издания «Нормы».
аудио
Норма
Сочинение композитора Бориса Филановского на текст 8-й главы «Нормы», пародирующей заседание редколлегии литературного журнала. Запись 8 октября 2008 года, исполняет ансамбль Musica Aeterna, дирижер Теодор Курентзис.
видео
Розыгрыш
Телешоу Первого канала: гостиница «Метрополь» и неожиданное появление сорокинской героини перед самим писателем.